
Читайте также:
|
В ситуации не спадающего интереса современной историографии к фигуре Н.И. Костомарова, вызвавшего неоднократные попытки воссоздать его жизненный и творческий путь[452], нет смысла специально останавливаться на известных фактах биографии историка. Наличие переизданной «Автобиографии» Костомарова[453] – еще один аргумент в пользу этого подхода. Но поскольку творчество историка было тесно сопряжено с его жизненными коллизиями, а система политических представлений непосредственно воздействовала на перипетии личной и научной судьбы, то, конечно, обращение биографическому контексту будет необходимо.
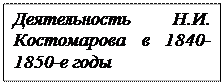 Первый период научной деятельности Костомарова пришелся на 40-50-е гг. XIX в., когда после окончания Харьковского университета (с отличием и со степенью кандидата наук), он, опубликовав ряд литературных произведений (1839-1840), в 1841 г. представил к защите магистерскую диссертацию «О причинах и характере Унии в Западной России». Отмеченный период разделяет его жизнь на два отрезка: до ссылки (с 1847 г.) и после саратовской ссылки (с 1857 г.). Однако это подразделение существенно не отразилось на выработанной Костомаровым стратегии научной работы. Тот факт, что к завершению ссылки он сумел опубликовать две крупных монографии – по истории движения под руководством Б. Хмельницкого и истории бунта С. Разина, задуманных еще в 1840-е гг., свидетельствует о цельности выделенного отрезка творческой жизни историка.
Первый период научной деятельности Костомарова пришелся на 40-50-е гг. XIX в., когда после окончания Харьковского университета (с отличием и со степенью кандидата наук), он, опубликовав ряд литературных произведений (1839-1840), в 1841 г. представил к защите магистерскую диссертацию «О причинах и характере Унии в Западной России». Отмеченный период разделяет его жизнь на два отрезка: до ссылки (с 1847 г.) и после саратовской ссылки (с 1857 г.). Однако это подразделение существенно не отразилось на выработанной Костомаровым стратегии научной работы. Тот факт, что к завершению ссылки он сумел опубликовать две крупных монографии – по истории движения под руководством Б. Хмельницкого и истории бунта С. Разина, задуманных еще в 1840-е гг., свидетельствует о цельности выделенного отрезка творческой жизни историка.
Время вступления молодого Костомарова на стезю науки совпало со становлением в историографии направлений, ставших отголосками общественных дискуссий об историческом пути России – славянофильства и западничества. Костомаров не присоединился ни к одному из них. Вырабатывая собственную политико-мировоззренческую систему и свое понимание истории, он заявил о себе как родоначальнике оригинальных теорий, проблемных сюжетов, концептуальных интерпретаций.
Обратимся к диссертационным работам Н.И. Костомарова. Диссертационное исследование 1841 г., обращенное к анализу Брестской церковной унии 1596 г. и последствиям ее реализации, было сосредоточено на проблеме социально-религиозного размежевания населения Украины на православных, представленных непривилегированными слоями, и униатов, состоявших из дворян. Уже в этой работе Костомаров сосредоточил основное внимание на истории народа. В поле его зрения находилась, преимущественно казацкая социальная среда, которую он рассматривал в контексте выражения ею социального протеста под лозунгами независимости от Польши. Казаки и крестьяне выступали в сочинении Костомарова как спасители православия и независимости Украины. В диссертации он подверг критике православное духовенство (за взяточничество, поборы и пр.), а также поставил под сомнение значимость Зборовского мира, заключенного Б. Хмельницким, полагая, что этот мир не соответствовал смыслу народных требований. Подобные оценки и подходы были новыми, выходили за рамки официальной версии событий, что и стало причиной драматической судьбы его первого крупного труда. В результате рецензирования диссертации Н.Г. Устряловым и решения министра С.С. Уварова ее защита была отменена, а сам труд было приказано уничтожить[454].
Интерес к заявленным аспектам истории Украины и характер их интерпретации определились под воздействием двух основных факторов биографии историка. Во-первых, – влиянием идей и интересов литераторов, филологов, историков Харьковского университета (П.П. Гулака-Артемовского, И.И. Срезневского, М.М. Лунина и др.), во-вторых, – происхождением историка, родовые корни которого были связаны с казачьей средой Слободской Украины, а также немаловажным обстоятельством крепостного состояния Костомарова в детстве, поскольку его мать являлась крепостной крестьянкой отца историка.
История с уничтожением первой диссертации Костомарова, очевидно, существенно повлияла на его мировоззренческие установки, в системе которых идеи народности и народоправства только продолжали укрепляться. Усиливался и дух оппозиционных настроений историка. Несмотря на запрет диссертации, ее автор, сумев сохранить несколько экземпляров, впоследствии воспроизвел ее сюжеты в некоторых сочинениях 1860-х гг.: «Отрывки из истории южнорусского казачества до Богдана Хмельницкого», «Южная Русь в конце XVI века». Тематика этой диссертации также определит сюжетные линии и характер их освещения основных его исторических и литературных сочинений в последующем.
Один из целой серии «ударов судьбы» в своей жизни историк выдержал с достоинством. Уже через два года им была подготовлена новая диссертация, защищенная в 1844 г. под названием «Об историческом значении русской народной поэзии». На первый взгляд может показаться, что тема новой работы в политическом отношении чрезвычайно нейтральна, а в научном плане проста и неопределённа. Далеко не все современники сумели оценить ее достоинства. Как подчеркивает Р.А. Киреева, по ее поводу «было больше негативных отзывов»[455]. В.Г. Белинский, в частности, в отзыве («Отечественные записки») довольно язвительно заметил, что «народной поэзией занимается тот, кто не в состоянии заняться чем-либо дельным». Этот факт непонимания представителями прогрессивных кругов общественности принципов Костомарова в изображении прошлого с сожалением был им зафиксирован в «Автобиографии»[456].
Между тем в новой диссертации закладывались основы еще одного подхода к народной истории, который можно определить как фольклорно-источниковедческий. Ее дальнейшие исследования[457], а также введение им в научный оборот новых фольклорных источников существенно расширили представления о научно-информационном потенциале народного литературного творчества для реконструкции истории и культуры народа.
Сама тема и принципы ее освещения органически вытекали из опыта молодого историка по изучению украинского фольклора в 1830-40-е гг., интерес к которому был ему привит в Харьковском университете и общими литературными традициями украинской культуры. На этот раз защита прошла успешно. Его оппоненты – М.М. Лунин и И.И. Срезневский – более других, осознав новизну исследования, дали ему самую высокую оценку.
Ранние работы Костомарова, созданные в данном ракурсе, опровергали заявления историков государственной школы, в частности, тезис С.М. Соловьева о том, что «история имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому для истории нет возможности иметь дело с народными массами…»[458]. Подспудно это мнение означало и то, что для изучения народной истории не имеется достаточной и адекватной документальной основы. Костомаров своей диссертацией доказывал обратное: основным документом в его построениях выступают произведения-источники народной литературной традиции.
После защиты диссертации складываются условия для успешной научной и преподавательской карьеры историка: в 1846 г. его приглашают в качестве преподавателя-историка в Киевский университет. Его пробная лекция «С какого времени следует начинать русскую историю?» прошла блестяще, сам он день дебюта на преподавательском поприще относил к «самым светлым и памятным» в своей жизни. Однако это начинание, как и другие тогдашние творческие замыслы, были прерваны арестом по делу его участия в Кирилло-Мефодиевском обществе.
Оставляя в стороне хорошо представленные в специальной литературе сведения об этом обществе и его разгроме[459], отметим смысл основной идеи общества, разделяемой Костомаровым. В особом (программном по характеру) документе общества, составленном историком – «Книге бытия украинского народа» – им выдвинута мысль о национально-культурной автономии Украины как перспективной политической задаче. Оппозиционность Костомарова официальной идеологии была основана на системе его исторических представлений об изначальной природе политического устройства Древней Руси как федерации. Впоследствии проблемы федеративной истории составят важный узел концептуального осмысления Костомаровым всей русской истории.
Последовавший арест и год заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости сильно подорвали здоровье Костомарова, но продемонстрировали его силу духа. Находясь в заключении, он изучал греческий, испанский языки, читал, насколько позволяло резко ухудшившееся зрение.
За 9-летний период последовавшей саратовской ссылки, он, работая делопроизводителем Саратовского статистического комитета, подготовил целый ряд исследований по истории саратовской провинции. Зная его интересы и имея в виду значительный опыт собирания фольклора, нас не удивит появление в «Саратовских губернских ведомостях» работы «Народные песни, собранные в Саратовской губернии», опубликованной анонимно.
Служебные поездки по губернии дали возможность собрать не только фольклорные произведения, но и выйти на новые темы его собственных «археографических экспедиций». В «Автобиографии» историк отмечал, что тогда его глубоко заинтересовала история «внутреннего русского быта». Собранная им коллекция различных документальных публикаций стала основой его «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», изданного для массового читателя вскоре после завершения ссылки. Характерен его собственный комментарий к этому «Очерку», являвшийся своеобразным ответом на сочинения И.Е. Забелина, посвященные домашнему быту царей и цариц. Костомаров подчеркивал альтернативный характер своего сочинения следующим резюмирующим суждением: «Вы, представители государственной школы, интересуетесь бытом царей, я – бытом народа»[460].
Но главное внимание Костомарова в годы ссылки было сосредоточено на создании давно увлекавших его исследований, которые сразу после возвращения из ссылки (в 1857-1858 гг.) были изданы в журнальных версиях: «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России», «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», а также в виде книги – «Бунт Стеньки Разина». Особую актуальность в то время, когда обсуждались вопросы отмены крепостного права, приобрели все, представленные историком проблемы. Это и вечевое самоуправление Древней Руси, и этноконфессиональные и политические русско-польско-украинские взаимоотношения, и народные движения, и торгово-экономическое развитие России. Как отметила Р.А. Киреева, все эти вопросы для историографии того времени были «неожиданными и необычными», а сами труды настолько оригинальными, что их автор «произвел неизгладимое впечатление на специалистов и читающую публику»[461].
Именно этими крупными работами Костомаров заявил о себе как историк нового направления, ценностными ориентирами которого становилась народная история в широком спектре ее сторон. Костомаров возвращался в науку как победитель, полный творческих замыслов и идей. Фактами публикаций указанных трудов, а также официальным приглашением ранее опального историка в Петербургский университет (1859) можно завершить первый период деятельности и приступить к анализу следующей страницы его творческой биографии.
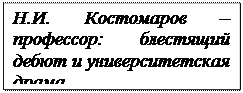 По иронии судьбы Костомарова приглашают профессором на кафедру русской истории Петербургского университета в связи с выходом в отставку Н.Г. Устрялова, рецензия которого когда-то стала поводом для «сожжения диссертации» историка. Петербургский период жизни ученого начинался поистине триумфально. Читающая публика с большим интересом следит за его работами, цензура к нему благосклонна, издатели беспрепятственно публикуют его сочинения, студенты восторженно встречают его лекции. И хотя профессорство историка оказалось непродолжительным (о причинах очередного поворота в судьбе историка скажем далее), но во многом закрепило идейно-методологическую программу его научных поисков.
По иронии судьбы Костомарова приглашают профессором на кафедру русской истории Петербургского университета в связи с выходом в отставку Н.Г. Устрялова, рецензия которого когда-то стала поводом для «сожжения диссертации» историка. Петербургский период жизни ученого начинался поистине триумфально. Читающая публика с большим интересом следит за его работами, цензура к нему благосклонна, издатели беспрепятственно публикуют его сочинения, студенты восторженно встречают его лекции. И хотя профессорство историка оказалось непродолжительным (о причинах очередного поворота в судьбе историка скажем далее), но во многом закрепило идейно-методологическую программу его научных поисков.
Прежде всего, следует обратиться к анализу вступительной лекции программного характера (22 ноября 1859 г.)[462], прочитанной в Петербургском университете и сыгравшей роль увертюры профессорско-преподавательской карьеры Н.И. Костомарова. Она же положила начало его размышлениям о задачах, предмете и методах исторической науки, сыграв существенную роль в проецировании перспектив исторических исследований в собственной деятельности, и, более того, создала основу очертаниям новой историко-научной культуры. Ее приверженцы обнаружатся как вскоре после появления научных манифестов Костомарова, так и в значительно более позднем времени – уже после его кончины.
Представляя свое научное кредо, Костомаров в первую очередь изложил собственное понимание целей обучения в системе высшего исторического образования. Он подчеркивал, что первостепенным по важности считает не эмпирическую основу исторической науки – знание фактов, а их «осмысление», полагая к тому же, что пришедшие в университет студенты обладают достаточным «запасом приобретенного» по истории. Последовательно выступая против школярства в университетском преподавании, он ориентировал слушателей своего курса на «спорные» вопросы науки или по каким-то причинам остававшиеся «на втором плане». Избирательные акценты на наиболее актуальных, с его точки зрения, аспектах русской истории – вот стратегическая линия представляемого историком лекционного курса.
Краткий историографический обзор лекции выявил ценностные установки автора: он не собирался продолжать Н.М. Карамзина, а предпочитал следовать за «смелым», но полузабытым критиком великого историка – Н.А. Полевым, который одним из первых сделал попытку обратиться к истории народа. Вот эту-то тему «второго плана» и предполагал развить в своем курсе Костомаров, подчеркивая, что при наличии богатейших коллекций уже изданных материалов по теме, «теперь только наступает пора» ее разработки, поскольку, наконец, «уяснилась» необходимость истории народа[463]: следует помнить, что это было время кануна отмены крепостного права.
Выдвигая свою позицию, Костомаров вовсе не отрицает значимости государственно-политической стороны истории, но подчеркивает, что именно народ составляет сердцевину человеческой истории, поскольку лишь некие этнические общности своей деятельностью и позицией формируют политическую основу государства. Для того чтобы лучше понять мысль историка и природу понятия «народ», обратимся к его примерам- разъяснениям. Он обращает внимание на факт существования единого русского народа в рамках двух государственных образований, в частности, Московского и Литовского (с XIV в.). Одновременно, указывает на исторические судьбы генетически родственных народов – русского и червоннорусского. Не будучи связанными общими государственными границами, они, фактически, принадлежали к одной этнической культуре: «Червонная Русь в XIV веке выступила из политической связи с остальной Россией, но судьба ее до тех пор будет принадлежать к русской истории, пока народ червоннорусский не потеряет русского языка и начал русской жизни»[464].
Проблема, поднятая Костомаровым, дает возможность увидеть этнокультурную основу смысла, который Костомаров вкладывал в понятие «народ». Процесс формирования любого народа представлялся ему в виде синтеза исторически связанных народностей. Историк заявил, определяя историческую равнозначность всех этнических образований и имея в виду русских, что «в наших жилах» течет столько же крови инородческой, сколько славянской[465].
Вместе с тем, он при изучении определенной этнической группы, например, в «Очерках домашней жизни и нравов великорусского народа», под народом имел в виду и различные социальные слои «народонаселения», выделяя в нем «высшие классы» и «простонародье». В этом смысле понятие «народ» приобретало значение национальной общности в ее различном социальном выражении. Выступая в Географическом обществе (1863 г.), Костомаров подчеркивал статус этнографии, как науки о народе, полагая, что ее предметом «должна быть жизнь всех классов народа, и высших, и низших»[466]. Собственно простонародье, как непривилегированная масса населения, становилось объектом его наблюдения преимущественно при изучении социальных движений протестного характера («Бунт Стеньки Разина»). При таком подходе Костомаров, противопоставляя себя государственной школе, вел речь, как и ее представители, о национальной истории. Однако авторские акценты в изображении народно-национальной истории смещались от описания политического «этажа» исторического процесса к аспектам, которые в современной историографии рассматриваются под углом зрения культурной антропологии и повседневной истории.
При этом программные установки Костомарова не ограничивались интересом только к бытовой стороне народной истории, а были устремлены к уяснению духовно-мировоззренческих основ жизни народа. В своей вступительной лекции он подчеркивал: «Народный обычай, черты домашнего быта, обряд увеселения – все это ещё внешность, не жизнь народная, а только её выражение. Жизнь народная заключается в движении его духовно-нравственного бытия: в его понятиях, верованиях, чувствованиях, надеждах, страданиях… Исследование развития народной духовной жизни – вот в чем состоит история народа…»[467]. Антропологический подход к истории особенно выразителен в его выступлении в Географическом обществе (1863 г.): «Созрело новое требование науки… Не предметы должен иметь историк на первом плане, а живых людей, которым эти предметы принадлежали в свое время. В этом вся тайна современного исторического требования… На первом плане у историка должна быть деятельная сила души человеческой… Не то важно для историка, как кафтан в таком-то веке носили, как женщины повязывались, а то, что эти признаки внешней жизни открывают нам в мире внутреннем, духовном…»[468]. Представленные идеи Н.И. Костомарова, несомненно, имели окраску романтической историографии. Они вели свои истоки из научных традиций первой половины XIX века. Любопытно в этом отношении сопоставление их с мыслями Т.Н. Грановского, который относил эмпирическое направление в исторической науке к разряду «ложных», поскольку «оно совершенно оставляет в стороне человека; оно довольствуется одними фактами и забывает развитие рода человеческого, что должно составлять сущность истории»[469].
Отстаивая свою народофильскую позицию, Костомаров особо подчеркивал, что народ проявлял себя в потоке истории «живой стихией», составляя ее содержание, в то время как государство являлось «формой», «мертвым механизмом»[470]. Опираясь на выдвинутые концептуально-методологические установки, он предложил свою версию периодизации русской истории, не предлагая при этом абсолютно точной хронологии, поскольку, по его мнению, исторический процесс «неуловим» и «своенравен». По его представлениям русская история распадалась, как уже отмечалось, на два основных уклада – время преобладания удельно-вечевых порядков и формирования единодержавия.
Для первого периода характерны «господство обычая» (обычного права), различные формы «народоправства» (самоуправления), федеративные основы политической жизни в виде племенных союзов, преобладание «личной свободы над сословностью» и др.
Единодержавному укладу, выразившемуся в формах Московского царства и Великого княжества Литовского, присущи безграничная власть царя, преобразование обычая в закон, уничтожение общинного самоуправления и федеративных основ политического устройства, в целом – «торжество государственного начала над народным»[471]. Причиной смены первого уклада вторым, по мнению Костомарова, послужило монгольское завоевание («плачевное событие»), искусственно прервавшее «механизм русской жизни». Историк считал, что определенным остатком «удельности» в условиях единодержавия являлось казачество[472].
Подчеркивая свой принципиальный интерес к истории удельного уклада русской жизни, он, некоторым образом, объяснял и особое отношение к этому социальному слою в своих исследованиях, в том числе в своей первой диссертации. В одной из своих работ Костомаров заявлял об исторической значимости казачества, поскольку это были «люди большинства, люди массы, недовольные насилием со стороны меньшинства, бежавшие в степь для того, чтобы найти там точку опоры для действия…»[473]. В интересе к казачеству как раз и проявилась одна из сторон понимания историком смысла понятия «народ», как выражение низовой культуры.
Вступительная лекция Костомарова была встречена всеми присутствующими восторженно. Новые идеи, публично заявленные автором в предвестии отмены крепостного режима, находили живой отклик в умах и душах большинства слушателей. Сам Костомаров вспоминал: «Стечение публики было большое; несколько государственных лиц посетили мою лекцию. По окончании чтения последовали громкие рукоплескания, а потом толпа молодых людей подхватила меня на руки и вынесла из университетского здания к экипажу…»[474].
Несомненно, успех вдохновлял историка, а атмосфера гласности на рубеже новой эпохи страны содействовала его творческой активности. По общему признанию историографов на конец 1859-начало 1860-х гг. пришелся взлет его исследовательской деятельности. Именно в это время реализуется большинство его идей, связанных с воплощением в конкретно-исторических сочинениях его «федеративной» теории. В серии статей и выступлений («Мысли о федеративном начале в Древней Руси», «Две русские народности», «О значении Великого Новгорода в русской истории» и др.), а потом в монографии «Северо-русские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Новгород-Псков-Вятка» (1863), он наиболее полно выразил свою концепцию, очертания которой дал во вступительной лекции.
Первые годы профессорства Костомарова сопровождались подъемом его общественной активности. Его статья «Замечание о наших университетах» (1861), высоко оцененная Ф.М. Достоевским, может рассматриваться как вклад в общественную инициативу, положившую начало обсуждению университетского вопроса и вылившуюся в разработку Устава 1863 г.
Любопытным моментом биографии историка, событием корпоративной культуры сообщества историков и средством научной коммуникации того времени стал его диспут с М.П. Погодиным по вопросу о происхождении Руси (1860).
Не останавливаясь специально на этом хорошо известном историографическом факте, можно лишь заметить, что публичная полемика, в которой симпатии слушателей оказались преимущественно на стороне Костомарова (хотя историк высказал весьма спорную версию литовско-жмудского происхождения[475] варягов), отразила популярность историка в широкой культурной аудитории. Интеллектуальная дуэль двух историков собрала большую аудиторию (зал был переполнен до отказа: слушатели сидели по двое на стуле, на окнах, на полу), нашла отклик в печати, содействовала росту популярности и научного авторитета Костомарова. Но впоследствии, в «Автобиографии», историк признавался, что согласился на этот спор «погорячившись», и даже сожалел, что выставил «такой специальный предмет на праздную потеху публики». Но молодые современники вспоминали, что в этом научном поединке им тогда «не было никакого дела до варягов», а Костомаров привлекал к себе как представитель нового направления, олицетворявший путь «к свободе и движению вперед, к науке, в противоположность косности и рутине»[476]. Спор двух историков не прояснил ситуации в давней проблеме, что заставило князя Вяземского остроумно заметить: «Прежде мы не знали куда идем, а теперь не знаем откуда»[477].
В последующие годы споры Костомарова с Погодиным продолжались по другим сюжетам русской истории – о роли Дм. Донского в сражении на Куликовом поле, о месте Москвы в процессе собирания русских земель, о Смуте и личностях Смуты.
Важно заметить, что в контексте этой полемики Костомаров приобретает черты нового типа ученого – борца с мифологемами в науке. Он подвергает переоценке стереотипы научных идей, отвергает устоявшиеся характеристики целого ряда исторических деятелей, пересматривая в этой связи, источниковую основу той или иной прежней версии. Погодин, оставаясь верным традиционным оценкам, пытался противостоять напору научной критики молодого коллеги. Его некоторые статьи в ответ Костомарову имели защитно-патриотический характер: «За Скопина-Шуйского», «За Минина», «За князя Пожарского» и др. [478]
Период активной научной и общественной деятельности Костомарова в 1859-1861 гг., когда признание его заслуг достигло апогея, сменился в 1862 г. очередным поворотом в жизни историка. Он связан с уходом Костомарова из университета. Кратковременный период профессорства и неожиданный разрыв с университетской карьерой были вызваны студенческими волнениями 1861-1862 гг. в Петербургском университете. Поводом для выражения студентами недовольства послужило введение в университете новых дисциплинарных правил. В воспоминаниях – «Автобиографии» – Костомаров детально изложил эти события и свое отношение к студенческим выступлениям[479]. Историк, несмотря на его оппозиционность власти в молодые годы и пережитый период ссылки, отнюдь не разделял политического радикализма настроений студенческой молодежи. Он признавался в мемуарах: «Я не принимал ни малейшего участия в тогдашних университетских вопросах, и хотя студенты часто приходили ко мне, чтобы потолковать со мною, что им делать, но я отвечал им, что не знаю их дел, что знаю только науку, которой всецело посвятил себя, и все, что не относится непосредственно к моей науке, меня не интересует. Студенты были очень недовольны мною за такую постановку себя к их студенческому делу…» Скептически он относился и к позиции части профессуры (К.Д. Кавелина, А.Н. Пыпина, М.М. Стасюлевича и др.), выразившейся в поддержке студенческих волнений и даже в таких протестных акциях как демонстративные заявления об отставке в ответ на аресты студентов. В мемуарных очерках о профессорах Петербургского университета[480] Костомаров лейтмотивом провел сюжет о студенческих волнениях, специально отметив отношение большинства из них к этим событиям. Сам он последовательно выдерживал нейтралитет, а на определенном этапе развития событий отказался бойкотировать чтение лекций, как того требовала политически активная часть студенчества. Его очередная лекция завершилось освистанием и бранью в его адрес. Подобная ситуация была оскорбительна для Костомарова, и в 1862 г. он подал в отставку.
Имеются некоторые основания считать, что к этому моменту кафедра уже тяготила историка, поскольку не давала свободного времени для научных занятий. П.Н. Милюков в энциклопедической статье о Костомарове писал, что тот еще осенью 1860 г., задумав исследование о самозванцах, готов был покинуть кафедру, чтобы заняться этой темой[481]. Предпочтение режима свободной деятельности, не стесненной рамками университетских обязанностей, подтверждается и фактом отказа историка занять кафедру Киевского университета, который присвоил ему степень доктора русской истории без защиты соответствующей диссертации.
«Университетская история» дает основание полагать, что 45-летний Костомаров в начале 1860-х гг. был далек от политической активности. Его политические настроения данного времени лишены были, явных признаков оппозиционности. Осуждение молодежно-студенческого «нигилизма», критический взгляд на «крайности» «развития либерального движения умов» позволяют представить Костомарова как деятеля умеренных политических взглядов, вполне удовлетворившегося итогами реформы 1861 года. Он не поддерживает характерное для образованной молодежи растущее «недовольство всем существующим общественным, семейным и политическим строем», которое в некоторых кругах приобретало характер «мечтаний» «о перестройке общественного здания». Историк считал, что процесс российского реформирования спровоцировал радикализацию политических настроений в обществе, вызвав, в первую очередь, протестное движение в молодежной среде: «Русские умы стали проникаться мыслию, что в России слишком много дурного и наше общество требует радикального возрождения. Как всегда и везде бывает, мыслящая молодежь несется без удержу вперед; все, что делается вокруг нее хотя бы с явными целями улучшений, ей кажется малым, недостаточным; ей хотелось бы видеть совершившимся в несколько месяцев то, на что по неизменным законам истории потребны годы, десятки лет и даже века!»
Явление нигилизма вызывает у Костомарова крайнее неприятие. Характеристика и осуждение нигилистических настроений и соответствующего стиля жизни молодежи, представленные в «Автобиографии», сродни идеям «Отцов и детей» И. С. Тургенева. Костомарова волновали не только черты образа жизни молодых людей, ведущие, как он считал, к бездуховности, но и их ограниченность в понимании смысла и роли науки в обществе: «От прежних либералов нигилисты … стали отличаться крайним неуважением к положительной науке, признавая полезным только утилитарную часть реальных наук, содействующих материальному благосостоянию человека».
Опасность нигилизма Костомаров в первую очередь связывал с негативными последствиями увлеченности им «интеллигентного юношества» в те годы, когда человеком должны приобретаться научные знания и формироваться нравственные принципы. В результате: «Вместо полезных общественных деятелей в той или другой форме вырабатывались разные либеральные болтуны, заносчивые хвастуны, воображавшие за собою такие достоинства, каких на самом деле не было, а в конце концов — вредные ленивцы, твердившие о труде, а на самом деле бегавшие истинно полезного труда или своим порочным отношением портившие его, когда за него принимались»[482]. В отношении к студенчеству историк выступал в роли «отца», не понимавшего своих «детей».
Вероятно, собственный опыт политической деятельности и политической ссылки был определенным образом переосмыслен историком. Сохраняя верность идеям федерализма, Костомаров не принимал форм, методов и принципов политической борьбы нового поколения оппозиционеров. Для него политическая сторона жизни общества и отдельной личности тесно сопрягалась с религиозно-нравственными устоями, разрушение которых он воспринимал как жизненную драму. Консервативные установки зрелого Н.И. Костомарова пришли в противоречие с преобладавшими в университетской среде настроениями. Вернувшись триумфатором из ссылки, он не смог вписаться в новую общественно-политическую ситуацию. Новые идеи и настроения не соответствовали и его научной программе, нацеленной на реализацию целой серии исследовательских проектов, задуманных еще в молодые годы.
Историк оставался либералом дореформенного типа, чуждым идеям буржуазного либерализма и, соответственно, нараставшим тенденциям капиталистической модернизации. Студенческие манифестации стали для него поводом отойти от активной публичной деятельности. Создание камерной жизненной обстановки, погружение в исследовательскую и литературную работу не привело, конечно, к забвению историка. Его активная научно-литературная деятельность (работа во многих научных обществах, комиссиях, съездах, сотрудничество с ведущими общественно-литературными журналами)[483] сохраняла за ним славу большого ученого и популярного писателя. В 1870- 80-е годы он создает крупный оригинальный проект по изучению личностей в русской истории, пишет свои воспоминания. Начался новый период деятельности Костомарова – историка, писателя и публициста – в стиле «свободного художника».
 Вопросы о том, как историк должен воспроизводить прошлое, какие акценты ставить, и в какой стилистике формировать свой текст, чтобы он был интересен читателю – потребителю исторических сочинений, были и будут актуальны во все времена. Историк всегда пишет, ориентируясь на определенную заинтересованную аудиторию. Этот ориентир формирует и проблематику, и характер языка, и стилистические приемы, и другие параметры исторического исследования. Историк одновременно ощущает себя и писателем.
Вопросы о том, как историк должен воспроизводить прошлое, какие акценты ставить, и в какой стилистике формировать свой текст, чтобы он был интересен читателю – потребителю исторических сочинений, были и будут актуальны во все времена. Историк всегда пишет, ориентируясь на определенную заинтересованную аудиторию. Этот ориентир формирует и проблематику, и характер языка, и стилистические приемы, и другие параметры исторического исследования. Историк одновременно ощущает себя и писателем.
Связь истории с литературой имеет генетическую основу, поскольку исторические сочинения изначально формировались как определенный жанр в потоке общего литературного процесса. В XVII в. исторические исследования до конца еще не отделились от литературных произведений. Этот процесс явственно начался в XVIII –первой половине XIX. Но даже в 1850-е гг. С.М. Соловьев, публикуя свои очерки о русских историках, назвал свой труд по этой теме – «Писатели русской истории».
Н.И. Костомаров относился к той категории историков, которые продолжали ощущать органическую связь истории и литературы, а если точнее – истории и всей области искусства. Можно назвать целую галерею историков, тесно сопрягавших свою историко-научную деятельность с литературной: Н.М. Карамзин, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой, М.П. Погодин, В.О. Ключевский. Б о льшая часть названных историков принадлежала первой половине XIX в., когда в обществознании, истории и литературе сильны были идеи романтической школы, с характерным для нее интересом к человеку и его внутреннему миру.
«Человек в истории» как выразительный исследовательский акцент романтической историографии, как известно, родился в европейской культуре и более всего был характерен для немецкой и французской традиции[484]. В кругу «романтиков» формируется не только интерес к судьбе человека в истории, но и складывается особый стиль письма, наиболее характерной чертой которого является эмоциональность и художественность. Их доминирование в системе авторских приемов объясняется стремлением к психологическому, этическому и эстетическому воздействию на читателя. Историческое повествование должно было и убедить читателя, и настроить его в определенном отношении к прошлому. Историк романтического плана находил средства для выражения собственных переживаний и настроения.
Создавая образ прошлого, историк-романтик относился к своему тексту как к искусству преображения прошлого, преподнося его сквозь призму открытия некоей исторической тайны. Один из представителей раннего немецкого романтизма Новалис, определяя свой подход, писал: «Придавая вещам обыденным высший смысл, вещам привычным – обаяние таинственности, известным – достоинство неизвестного, конечному – видимость бесконечного, – я романтизирую их»[485]. «Воображение», «вчувствование», ставшие характерными способами интуитивного конструирования прошлой реальности, построение исторического нарратива как романа, использование риторических приемов, – все это сближало исторические сочинения «романтиков» с художественными произведениями.
Важной их установкой являлось утверждение, что «история не учит», поскольку не повторяется. Но в то же время они полагали, что функцию учителя выполняет сам историк, выступая по отношению к читательской аудитории моралистом и воспитателем. С романтизмом связывают также формирование идеи развития и особого типа мышления, вошедшего в интеллектуальное наследие под названием «историзм».
Костомаров оказался в поле притяжения идей и методов романтизма, что позволяло, как отмечалось, уже современникам сравнивать его творчество с традициями французской романтической историографии (с О. Тьерри, в частности). Большое научное и литературное наследие историка свидетельствует о его стремлении выработать особый авторский текст, который бы соединял в себе, с одной стороны, научную точность, с другой – эмоционально-эстетическую и художественную привлекательность. Не случайно, многие крупные сочинения историка (например, «Богдан Хмельницкий», «Смутное время Московского государства в начале XVII века»), относимые к типу научных монографий, изобилуют выражениями прямой речи, тяготеют к эмоционально-художественному стилю, не имеют строгого научно-справочного аппарата. Подобный характер исторического нарратива многим историкам, особенно младшего поколения, связанным принципами позитивизма, казался не научным. Так, С.Ф. Платонов в своих письмах не раз подчеркивал несколько пренебрежительное отношение к творчеству историка, отказываясь писать о нем специальные исследования[486]. Но сочинения Костомарова всегда привлекали большую аудиторию.
Вероятно, не ошибемся, если скажем, что русское культурное общество познавало прошлое в значительной мере по сочинениям Костомарова, чем из более академичных по стилю исторических трудов других историков. Заметим, что в отличие от многих современных нам популяризаторов истории, Костомаров оставался профессионалом, прекрасно понимавшим задачи науки и научного познания. Но не менее он понимал и значимость воспитания общества при помощи истории. Стремление создать и запечатлеть в сознании читателей яркие запоминающиеся образы истории, которые без особых усилий, а только при помощи эмоционального авторского переживания укореняются и закрепляются в коллективной памяти нации, служили, вероятно, важным стимулом для историка в его попытках соединить в своих сочинениях познавательный потенциал научно-исторического и художественного подходов.
Начатая историком в 1870-е годы работа по созданию «жизнеописаний главнейших деятелей»[487] русской истории, целая серия исторических портретов созданных им и вне этого издания[488], подчеркивают факт уверенности Костомарова в выбранном им жанре научного исследования. Жанр исторического портрета в сочинениях историка появился не случайно. Важную роль в выборе нового исследовательского проекта сыграло, вероятно, не только созвучие его мировоззренческих убеждений и эстетических настроений романтической парадигме, но и близость к миру искусства. Живопись, поэзия, литература, архитектура, музыка, так или иначе связанные с прошлым, путешествия по местам исторических событий, исторические достопримечательности, предметы старины и пр. – все это вдохновляло романтическую натуру историка, становилось источником новых идей и основой осмысления прошлого на уровне «переживания».
В 1869/70 г. Костомаров читал публичные лекции по русской истории в клубе художников, которые пользовались популярностью в среде петербургских живописцев. Особые отношения связывали Костомарова с художником Н.Н. Ге. Еще в киевский период жизни историка будущий художник учился у него в гимназии. В Петербурге их жизненные пути пересеклись. В 1870 г. Ге пишет портрет Костомарова. А на следующий год он выставил свою знаменитую картину «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». В 1875 г. в журнале «Древняя и новая Россия» Костомаров опубликовал очерк «Царевич Алексей Петрович» с характерным подзаголовком: «По поводу картины Н.Н. Ге».
Эта череда событий художественной и культурной жизни показывает явное взаимовлияние творческой деятельности историка и художника, а возможно, отражает результат совместных обсуждений эпохи Петра I во время встреч по поводу портрета историка. В переписке современников произведение Ге оценивалась очень высоко. Появление исторической картины в период осмысления реформ 1860-х гг. не могло не привлечь своей актуальностью публику, постоянно окружавшую новое полотно. В частности, И.Н. Крамской писал Ф.А. Васильеву: «Ге царит решительно. На всех его картина произвела ошеломляющее впечатление». Сам художник признавался П.М. Третьякову, что по целым дням работает или «читает Историю» [489]. Картина высоко ценилась за ее психологический контекст, изображающий историко-семейную драму отца и сына.
Сопоставление живописного и исторического произведений показывает сходство настроений двух авторов и понимания ими смысла этого явления в различных по типу творениях. Хотя Костомаров в своей «Автобиографии» не упомянул подробностей подготовки своего очерка, но вполне очевидно, что живописная концепция художника, оказала глубокое эмоционально-психологическое воздействие на замысел его работы[490].
Характеризуя опыт исторической портретистики в творчестве историка в целом, можно выделить основные принципы, которыми руководствовался Костомаров в этой части своего творчества. Прежде всего, он выдвинул моральные критерии при характеристике той или иной личности, исходя из мысли, что нет таких целей, которые бы оправдывали любые средства. Этот подход историк реализовал и в «скандальной» биографии Дмитрия Донского (в статье «Куликовская битва»), этот же подход заставил его сомневаться в абсолютном величии Петра I. Основным методом для историка служил историко-психологический анализ. Глубокое погружение в индивидуальные свойства личности и психологическую основу поведения человека в истории характерно для значительной части его сочинений. Задачу раскрытия внутренних побудительных мотивов деятельности исторических личностей историк решал при помощи исторических источников, позволяющих проникнуть в область сознания, чувств и эмоций человека. Таковыми для него стали источники личного происхождения и близкие к ним по социальной функции документальные комплексы – разнообразные свидетельства современников, фольклорные произведения, материалы следственных дел и пр. Костомаров стремился к тому, чтобы читателю его сочинения были интересны по сюжету, замыслу, стилю. Его исторические повествования в целом, а портретные зарисовки в особенности, отличаются художественностью, эмоциональностью изложения. Большое значение он придавал нравственным урокам, которые вытекали из его исторических портретов. Общие принципы этого жанра в творчестве Костомарова демонстрируют в нем историка, закладывавшего в российской историографии основы исторической антропологии.
У Костомарова были оппоненты, которые считали, что он, опираясь на свое эмоционально-художественное понимание реконструкции человека в истории, отходил от принципов объективности.
Позицию защиты метода и подхода Костомарова занял В.О. Ключевский, писавший о нем: «…накоплялось ряд исторических образов, оторванных от исторического прошедшего и связанных неразрывно с автором. Мы говорим – это Костомаровский Иван Грозный, Костомаровский Богдан Хмельницкий, Костомаровский Стенька Разин, как говорили: это Иван Грозный Гр. Антакольского, это Петр Великий Ге и т. п. Мы говорим: пусть патентованные архивариусы лепят из архивной пыли настоящего Ивана Грозного, Богдана Хмельницкого, Разина – эти трудолюбивые, но мертвые слепки будут украшать археологические музеи, но нам нужны живые образы, и такие живые образы нам дает Н.И. Костомаров…»[491].
Ключевский воспринимал Костомарова как историка, заявившего свое право создавать образы людей прошлого, исходя не только из фактографического материала, но опираясь на интуитивное, эмоционально окрашенное понимание человеческой сущности, проявляющейся в обстоятельствах времени, места, ситуации. Сам, являясь глубоким знатоком исторической психологии, он ценил в нем мастера создания «живого» исторического портрета, историка, умевшего соединить задачи историко-научной реконструкции с методами воспроизведения прошедшей реальности, восходящими к области художественной культуры – изобразительного искусства, литературы. Подход первого из названных историков и историографические оценки второго из них могут являться свидетельством того, что тот и другой воспринимали историческое знание как область, лежащую на стыке науки и культуры: между историей и искусством нет непроходимой границы, знание имеет целостное выражение. Подобный взгляд объединял двух историков в сфере не рефлектированного в то время понимания важности антропологизации истории.
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 161 | Нарушение авторских прав