
|
Читайте также: |
1 Так называемые конвенционалисты А. Пуанкаре, П. Дюэм и позднее
А. Эддингтон — см. прим. 17 к гл. 5.
2 См. мою книгу «The Logic of Scientific Discovery» (London, Hutchinson,
1959; сокращенный русский перевод: К. Поппер. Логика научного исследо
вания // К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983, с.
33-235).
3 «Теория черпающего сознания» («bucket theory of the mind») упомина
лась в главе 23. (*0 «теории науки как прожектора» («searchlight theory of
science») см. мою статью «Towards a Rational Theory of Tradition», включен
ную в книгу «Conjectures and Refutations», см. особенно р. 127 и след.*)
«Теория науки как прожектора» содержит, по-видимому, именно те элемен
ты кантианства, которые являются приемлемыми. Можно сказать, что ошиб
ка Канта состояла в том, что он полагал, будто прожектор нельзя усовершен
ствовать, и не видел, что некоторые прожекторы (теории) могут не освещать
факты, которые другие прожекторы хорошо высвечивают. Вместе с тем мы
действительно отказываемся от применения тех или иных прожекторов и
добиваемся прогресса в науке.
4 См. прим. 23 к гл. 8.
5 О попытке избавиться от любых предположений см. мою критику
воззрений Э. Гуссерля в прим. 8 (1) к гл. 24 и соответствующий текст.
Наивная идея, что можно избежать предположений (или точек зрения),
неоднократно подвергалась критике Г. Гомперцем (см. Н. Gomperz. Wel
tanschauungslehre, I, 1905, SS. 33 und 35; возможно, мой перевод приводимой
далее цитаты из этой книги является несколько вольным). Критика Гомперца
направлена против радикальных эмпиристов, а не против Гуссерля. Гомперц
писал: «Философское или научное отношение к фактам есть всегда мыслен
ная установка, а не наслаждение фактами подобно корове, не созерцание
фактов в манере художника или восхищение ими в стиле мечтателя.
Следовательно, мы должны исходить из того, что философ не удовлетворен
фактами в том виде, как они есть, а размышляет о них... Теперь ясно, что
за философским радикализмом, который претендует... на то, чтобы иметь
дело непосредственно с фактами или объективными данными, всегда кроется
некритическое восприятие традиционных доктрин. Ведь некоторые мысли о
фактах должны приходить на ум даже этим радикалам, но поскольку
радикалы не замечают их до такой степени, что утверждают, будто они
просто принимают факты, то нам не остается ничего иного, как предполо
жить, что их мысли... некритичны». (См. также замечания Г. Гомперца
относительно проблемы интерпретации — Н. Gomperz, Intrpretation // Er
kenntnis, vol. 7, p. 225 и след.)
6 См. исторические комментарии А. Шопенгауэра (Л. Schopenhauer. Pa
rerga etc., vol. II, ch. XIX, § 238; Works, 2nd German ed., Bd. VI, S. 480).
7 (1) Насколько я знаю, теория причинности, которую я сейчас кратко
представлю, впервые была изложена в моей книге «Logik der Forschung»
(1935), переведенной позднее на английский язык под названием «The Logic
of Scientific Discovery» (1959); цитата взята с р. 59 и след. английского
варианта этой книги (** сокращенный русский перевод: К. Поппер. Логика
научного исследования // Логика и рост научного знания. М., Прогресс,
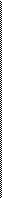
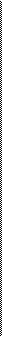
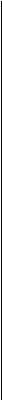 434
434
1983, с. 83-84. При цитировании этого фрагмента мы частично изменили указанный русский перевод главным образом для того, чтобы учесть внесенные автором уточнения. — Прим. редактора и переводчика.) В английском издании раздела 12 этой работы были опущены скобки немецкого оригинала, а цифры и четыре коротких фрагмента в скобках были добавлены для того, чтобы сделать описание более понятным, а также для того, чтобы учесть концепцию, которая не была для меня вполне ясна в 1935 году, а именно — концепцию, которую А. Тарский назвал «семантикой» (см., например, A. Tarski. Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik // Actes du Congres International Philosophique, vol. III, Paris, 1937, p. 1 и след., а также R. Car-nap, Inroduction to Semantics, 1942). Благодаря развитию Тарским оснований семантики я больше не боюсь (как это было раньше, когда я писал «Logik der Forschung») свободно применять понятия «причина» и «следствие». Используя концепцию истины Тарского, эти понятия можно ввести с помощью следующего семантического определения: Событие А есть причина события В, и событие В есть следствие события А, если и только если существует такой язык, в которым мы можем сформулировать три предложения и, а и b, такие, что и есть истинный универсальный закон, а описывает А, b описывает В и b является логическим следствием из и и а. (Термин «событие» или «факт» можно задать с помощью семантической версии моего определения термина «событие» из книги «The Logic of Scientific Discovery», p. 88 и след., скажем, так: Событие Е есть общий десигнатор класса взаимно определимых сингулярных утверждений.)
(2) Здесь уместно добавить несколько замечаний исторического характера относительно проблемы причины и следствия. Концепция причинности Аристотеля (а именно — концепция формальной, материальной и действующей причин, последняя из которых нас в данном случае не интересует, даже если мои замечания верны и для нее) является типично эссенциалист-ской. Проблема заключается в том, чтобы объяснить изменение или движение, и Аристотель пытается решить ее, обращаясь к скрытой сущности, или структуре, вещей. Такой эссенциализм присутствует и во взглядах на движение Бэкона, Декарта, Локка и даже Ньютона. Вместе с тем теория Декарта позволяет взглянуть на проблему движения и причинности по-новому. Декарт усматривал сущность всех физических тел в их пространственной протяженности, или геометрической форме, и отсюда заключал, что единственный способ, которым тела могут воздействовать друг на друга, заключается в отталкивании: одно движущееся тело необходимо выталкивает другое из его места потому, что они оба имеют протяженность и, следовательно, не могут занимать одно и то же место. Таким образом, следствие следует за причиной по необходимости, и все действительно причинные объяснения (физических событий) должны строиться в терминах отталкивания. Эту позицию разделял и Ньютон, говоривший, правда, о своей теории гравитации — в ней используется идея притяжения, а не отталкивания, — что, возможно, ни один человек, знающий что-то о философии, не сочтет эту теорию удовлетворительным объяснением. Вместе с тем эта концепция все еще сохраняет свое влияние в физике и выражается в виде неприязни к любому виду «действия на расстоянии». Беркли был первым, кто подверг критике объяснения причинности с помощью скрытых сущностей вещей — независимо от того, вводится ли они для «объяснения» ньютоновского притяжения или используется для построения декартовской теории отталкивания. Беркли требовал, чтобы наука описывала, а не объясняла
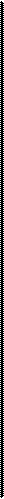 435
435
существенные или необходимые связи. Эта концепция, весьма характерная для позитивизма, теряет смысл, если принимается изложенная мною теория причинного объяснения. В этом случае объяснение становится видом описания, в котором применяются универсальные гипотезы, исходные условия и логическая дедукция. Юму (предшественниками которого были Секст Эмпирик, аль Газали и другие) принадлежит, по-видимому, самое важное исследование по теории причинности. Он утверждал (и это противоречит картезианской точке зрения), что мы не можем знать ничего о необходимой связи между событием А и другим событием В. Все, что нам может быть известно, это то, что событие вида А (или событие, сходное с А) до сих пор предшествовало событию В (или событию, сходному с В), то есть что фактически эти два события были связаны друг с другом. Однако поскольку мы не знаем, является ли эта связь необходимой, мы можем только утверждать, что такая связь имела место в прошлом. В моей теории причинности полностью принимается эта юмовская критика. В то же время моя теория отличается от концепции Юма тем, что (1) в ней в явном виде сформулирована универсальная гипотеза о том, что событие вида А всегда и везде предшествует событию вида В; (2) утверждение: «А есть причина В» считается в ней истинным при условии, что истинна сформулированная универсальная гипотеза. Другими словами, Юм рассматривал только события А и В как таковые и не находил следов причинной зависимости или необходимой причинной связи между ними. Мы же добавляем к событиям нечто третье, а именно — универсальный закон, и по отношению к этому закону можем говорить и о причинной зависимости, и о необходимой причинной связи между событиями. Например, мы можем дать следующее определение: Событие В находится в причинной связи (или необходимо связано) с событием А, если и только если А есть причина В (в смысле нашего семантического определения, сформулированного ранее). Что касается вопроса об истинности универсального закона, то можно сказать, что существует бесконечное множество универсальных законов, истинностью которых мы никогда не интересуемся в повседневной жизни и, соответственно, существует бесконечное множество случаев причинной связи, относительно которых в повседневной жизни мы никогда не решаем вопроса о том, являются ли эти «причинные связи необходимыми».
С точки же зрения научного метода, рассматриваемая ситуация выглядит по-иному. Дело в том, что мы никогда не можем рационально установить истинность научных законов. Все, что мы можем сделать — это строго проверить законы и удалить ложные (именно в этом состоит, как мне представляется, главная идея моей книги «The Logic of Scientific Discovery»), Соответственно, все научные законы всегда имеют гипотетический характер. Они являются допущениями, и, следовательно, все утверждения об отдельных причинных связях тоже всегда имеют гипотетический характер. Мы никогда не можем быть уверены (в рамках науки) в том, что А есть причина В именно потому, что мы никогда не можем быть уверены в истинности данной универсальной гипотезы, как бы хорошо она ни была проверена. Тем не менее, мы будем считать конкретную гипотезу о том, что А есть причина В, приемлемой, если мы проверили и подтвердили соответствующую универсальную гипотезу. (О моей теории подтверждения (confirmation) см главу X, а также Приложение 'IX в «The Logic of Scientific Discovery», особенно р. 275, где обсуждаются временные коэффициенты или индексы предложений подтверждения; русский перевод главы X «Логики научного исследования»
см. в К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983, с. 192-231.)
(3) Что касается моей теории исторического объяснения, развиваемой в тексте настоящей главы далее, то я хочу здесь дополнить ее некоторыми критическими комментариями по поводу статьи Мортона Уайта «Историческое объяснение» (A/. G. White. Historical Explanation //Mind, vol.52, 1943, p.212 и след.). М. Уайт соглашается с моим анализом причинного объяснения, который впервые был дан в «Logik der Forschung». (Он ошибочно приписывает авторство этой теории К. Гемпелю, имея в виду его статью, опубликованную в «Journal of Philosophy», 1942; см., однако, реферат Гемпеля на мою книгу, опубликованный в «Deutsche Literaturzeitung», Bd. 8, 1937, SS. 310-314.) Установив, что вообще мы называем объяснением, Уайт спрашивает, что такое историческое объяснение. Отвечая на этот вопрос, он показывает, что характерной особенностью биологического объяснения (в отличие, скажем, от физического) является вхождение специфически биологических терминов в объясняющие универсальные законы, и делает заключение, что историческим объяснением является такое объяснение, в которое входят особые исторические термины. Далее он обнаруживает, что все законы, в которые входит что-то похожее на особые исторические термины, лучше характеризовать как социологические законы, поскольку используемые в них термины являются скорее социологическими, чем историческими. Таким образом, он вынужден в конечном счете отождествить «историческое объяснение» с «социологическим объяснением».
Мне кажется очевидным, что при такой точке зрения не учитывается то, что я называю в тексте различием между историческими и теоретическими обобщающими науками, а также их специфическими проблемами и методами. Дискуссия по проблеме исторического метода давно выявила, что история интересуется отдельными фактами, а не общими законами. Говоря о дискуссии, я имею в виду, например, статьи лорда Эктона, написанные в 1858 г. и направленные против Г. Бакла (их можно найти в Lord Acton. Historical Essays and Studies, 1908), а также спор между Максом Вебером и Эдуардом Майером (см. М. Weber. Gesammelte Aufsaetze zur Wissenschaftslehre, 1922, S. 215 и след.) Подобно Э. Майеру, М. Вебер всегда справедливо подчеркивал, что история интересуется единичными событиями, а не универсальными законами, и что в то же время она интересуется причинным объяснением. Однако, к сожалению, эти правильные замечания (см. A/. Weber, op. cit., S. 8) приводят его к возражению против того, что причинность связана с универсальными законами. Мне кажется, что моя теория исторического объяснения, развитая в настоящей книге, устраняет эту трудность и одновременно объясняет, как она могла возникнуть.
** Как разъяснил по нашей просьбе автор, упоминаемый им в конце раздела II настоящей главы капитан Пинафор — герой комической оперы У. Гилберта и А. Салливена «Фрегат Ее Величества "Пинафор"». Капитан Пинафор, в частности, утверждает, что он «Никогда, никогда не болеет в море». На вопрос команды «Действительно никогда?» он отвечает «Почти никогда». — Прим. редактора и переводчика. **
8 Доктрина, согласно которой в физике проводятся решающие эксперименты, была подвергнута критике конвенционалистами, особенно П. Дюэмом (см. прим. 1 к настоящей главе). Однако, Дюэм писал об этом до Эйнштейна и решающего наблюдения Эддингтоном отклонения видимого положения звезд в условиях полного солнечного затмения и даже еще до
экспериментов Луммера и Прингсгейма, которые фальсифицировали формулу Рэлея-Джинса и привели в конечном счете к квантовой теории.
9 Зависимость истории от наших интересов допускалась и Э. Майером,
и его критиком М. Вебером. Э. Майер писал (Е. Meyer. Zur Theorie und
Methodik der Geschichte, 1902, S. 37): «Отбор фактов зависит от исторических
интересов тех, кто живет в настоящее время...». М. Вебер отмечал (М. Weber.
Gesammelte Aufsaetze, 1922, S. 259): «Наш... интерес... будет определять круг
культурных ценностей, которые определяют... историю». Вебер, следуя
Риккерту, постоянно настаивал на том, что наши интересы, в свою очередь,
зависят от понятия ценности. В этом он, конечно, был прав, но ничего нового
для методологического анализа рассматриваемой проблемы это не дает. Ни
один из этих авторов не сделал революционного вывода: поскольку вся
история зависит от наших интересов, то могут существовать только
истории, а не «история»развития человечества, описывающая «действи
тельное развитие человечества».
О двух противоположных интерпретациях истории см. прим. 61 к гл. 11.
10 По поводу этого отказа обсуждать проблему «смысла смысла» (Ч. Огден
и И. Ричарде) или, скорее, «смыслов смысла» (Г. Гомперц) см. гл. 11,
особенно прим. 26, 47, 50 и 51. См. также прим. 25 к настоящей главе.
11 Относительно морального футуризма см. главу 22.
12 К. Barth. Credo, 1936, p. 12. По поводу замечания К. Барта против
«неопротестантской доктрины явления Бога в истории» см. К Barth, op. cit.,
p. 142. О гегельянском источнике этой доктрины см. то место главы 12, к
которому относится прим. 49 к гл. 12. См. также прим. 51 к гл. 24. Следу
ющая приводимая в этом абзаце цитата взята из К. Barth, op. cit., p. 79.
*Что касается моего замечания в тексте о том, что история Христа не была «историей или эпизодом безуспешной... национальной революции», сейчас я не склонен верить, что это действительно так (см. по этому поводу книгу R. Eisler. Jesus Basileus). Однако в любом случае история Христа — это не история мирского успеха.*
13 K. Barth. Credo, p. 76.
14 Kierkegaard's Journal of 1854; см. также S. Kierkegaard. Book of the Judge.
German ed., 1905, S. 135.
15 См. прим. 57 к гл. 11 и соответствующий текст. **Цитируемое в абзаце,
к которому относится это примечание, библейское пророчество взято из
«Евангелия от Луки» — см. Лук. 13, 30. — Прим. редактора и переводчи
ка**
16 См. заключительные предложения в книге J. Macmurray. The Clue to
History, 1938, p. 237.
17 См. особенно прим. 55 к гл. 24 и соответствующий текст.
18 С. Кьеркегор учился в университете Копенгагена в то время, когда
гегельянство занимало прочную и в некотором смысле агрессивную позицию.
Особенно влиятельным был теолог епископ Мартенсен. (По поводу этой
агрессивной позиции гегельянцев см. заключение Копенгагенской Академии,
направленное против прекрасной статьи А. Шопенгауэра «Foundations of
Morals», 1840. Вполне вероятно, что это событие способствовало знакомству
Кьеркегора с Шопенгауэром в то время, когда последний был еще неизвестен
в Германии.)
19 См. Kierkegaard's Journal of 1853; см. также S. Kierkegaard. Book of the
Judge. German ed., 1905, S. 129, отрывок из которой приведен в настоящей
главе в вольном переводе.
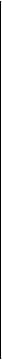

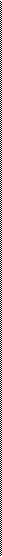
 438
438
Из христианских мыслителей не только С. Кьеркегор протестовал против гегелевского историцизма, как мы видели (см. прим. 12 к настоящей главе), это делал и К. Барт. Весьма интересная критика гегелевской теологической интерпретации истории была дана христианским философом М. Фостером, большим поклонником (если не последователем) Гегеля, в конце его книги М. В. Foster. The Political Philosophies of Plato and Hegel. Суть критики, если я правильно понял автора, состоит в следующем. Согласно теологической интерпретации Гегеля, различные периоды истории как таковые не имеют целей, а являются средствами достижения конечной цели. Однако Гегель ошибался, полагая, что исторические феномены или периоды истории являются средствами достижения цели, которую можно осознать и выделить как нечто отличное от феноменов самих по себе — аналогично тому, как намерение можно отличить от действия, направленного на его реализацию, или мораль от поведения (если мы ошибочно полагаем, что единственная цель поведения состоит в том, чтобы выразить идею этой морали). Такое допущение, утверждает Фостер, свидетельствует о неспособности понять разницу между работой творца и работой исполнителя, хорошо владеющего техникой, или «Демиурга». «Серию актов творения можно считать развитием, — пишет М. Фостер (М. В. Foster, op. cit., p. 201-203), —...не используя при этом особого понятия цели, которую эти акты преследуют... Скажем, можно считать, что живопись одной эры развилась из живописи предшествующей эры, не рассматривая это развитие в качестве дальнейшего приближения к совершенству или конечной цели... Аналогичным образом политическую историю можно считать развитием, не интерпретируя ее как теологический процесс. Однако Гегель и в этом, и во всех других случаях не понимал значимости актов творения». Далее Фостер пишет (M. В. Foster, op. cit., p. 204; курсив частично мой): «Гегель считал, что о неадекватности религиозных образов свидетельствует то, что люди, имеющие такие образы, утверждают, будто существует план Провидения, отрицая в то же время, что этот план познаваем... Утверждение, что план Провидения непостижим, несомненно, является неадекватным выражением, но истина, которую неадекватно выражает это утверждение, состоит не в том, что план Бога познаваем, а в том, что, как Творец, а не как Демиург, Бог вообще не действует согласно плану».
Я считаю, что критика М. Фостера прекрасна — несмотря на то, что произведение искусства, правда, в совершенно ином смысле, может создаваться согласно «плану* (хотя и не иметь цели или назначения). Действительно, художник или музыкант может пытаться реализовать нечто вроде платоновской идеи своей работы — ту стоящую перед его мысленным взором совершенную модель, которую он стремится копировать (см. также прим. 9 к гл. 9 и прим. 25-26 к гл. 8).
20 Относительно критики Гегеля Шопенгауэром, на которую ссылается
Кьеркегор, см. главу 12, особенно текст, к которому относится прим. 13, и
заключительные предложения главы 12. Приведенное в тексте продолжение
цитаты из Кьеркегора взято из 5. Kierkegaard. Book of the Judge. German ed.,
1905, S. 130. (В примечании Кьеркегор вставляет слово«пантеист» перед
словами «моральное разложение» («putridity»).)
21 См. главу 6, особенно текст, к которому относится прим. 26.
22 Относительно гегелевской этики господства и подчинения см. прим. 25
к гл. 11. Об этике обожествления героев см. гл. 12, особенно текст, к которому
относятся прим. 75 и след. ** В абзаце, к которому относится это примеча-
ние, К. Поппер, по-видимому, дает вольный перевод утверждения Гераклита. Близкий по смыслу гераклитовский фрагмент звучит так: «Чем доблестней смерть, тем лучше удел выпадает на долю [умерших]» (Diels5 25; Л 244). — Прим. редактора и переводчика. **
23 См. главу 5, особенно текст, к которому относится прим. 5.
24 Мы можем «выражать себя» различными способами, не прибегая к
коммуникации. О задаче использования языка в целях рациональной ком
муникации и о необходимости сохранения стандартов чистоты языка см.
прим. 19 и 20 к гл. 24 и прим. 30 к гл. 12.
25 Такой взгляд на проблему «смысла жизни» резко отличается от точки
зрения Л. Витгенштейна, выраженной в «Логико-философском трактате»
(см. L. Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus, p. 187; русский перевод:
Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. М., 1958, с. 97): «Решение
проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы. (Не это ли причина
того, что люди, которым после долгих сомнений стал ясным смысл жизни,
все же не могут сказать, в чем этот смысл состоит)». О мистицизме
Витгенштейна см. также прим. 32 к гл. 24. Относительно предложенной в
тексте интерпретации истории см. прим. 61 (1) к гл. 11 и прим. 27 к
настоящей главе.
26 См., например, прим. 5 к гл. 5 и прим. 19 к гл. 24. Следует заметить,
что мир фактов сам по себе полон (поскольку всякое решение можно
интерпретировать как факт). Именно поэтому никогда нельзя опровергнуть
монистическую точку зрения, согласно которой существуют только факты.
Однако неопровержимость не есть достоинство. Идеализм, например, также
нельзя опровергнуть.
27 Один из мотивов историцизма состоит в том, что историцист не видит
никакой иной альтернативы кроме тех двух, которые он допускает: или мир
управляется высшими силами, «неизбежной судьбой», гегелевским «разу
мом», или же он является просто иррациональной игрой случая. Однако есть
третья возможность: мы можем привнести разум в мир (см. прим. 19 к
гл. 24). Несмотря на то, что мир не прогрессирует, мы можем прогрессиро
вать — как индивидуально, так и в сообществе.
Эта третья возможность ясно выражена Г. Фишером в его «Истории Европы» (Я. A. L. Fisher. History of Europe, vol. 1, p. VII, курсив мой; эта работа цитировалась в тексте, к которому относится прим. 8 к гл. 21): «Некое интеллектуальное побуждение было... отвергнуто мною. Человек, более умный и более образованный, чем я, мог бы распознать в истории план и ритм, предопределенную систему. Эти гармонии от меня скрыты. Я могу видеть лишь одну неожиданность, следующую за другой, как волна следует за волною, только один великий факт, по отношению к которому не может быть никаких обобщений, поскольку он уникален, только одно надежное правило для историка: что он должен понять игру случайности и непредсказуемости». Сразу после этой блестящей критики историцизма (с отрывком, выделенным курсивом, ср. прим. 13 к гл. 13) Г. Фишер продолжает: «Это не доктрина цинизма и отчаяния. Факт прогресса ясно и четко начертан на скрижалях истории, однако прогресс не является законом природы. Достигнутое одним поколением может быть утеряно следующим».
В процитированных трех последних предложениях очень ясно выражено то, что я назвал «третьей возможностью» — убежденность в том, что все возложено на нас. Интересно, что процитированное утверждение Г. Фишера интерпретируется А. Тойнби (см. А J. Toynbee. A Study of History, vol. 5,


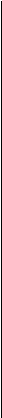


 440
440
p. 414) как выражение «современной западной веры во всемогущество Случая». В такой интерпретации в наиболее явной форме проявляется позиция историциста, его неспособность видеть третью возможность. Может быть, именно поэтому историцист пытается уйти от так называемого «всемогущества случая» в веру во всемогущество силы, находящейся за кулисами исторической сцены, то есть в историцизм (см. также прим. 61 к гл. 11).
Следует, пожалуй, более полно процитировать комментарий А. Тойнби к приведенному отрывку из Г. Фишера (который Тойнби цитирует только до слов «игру случайности и непредсказуемости»): «Нельзя считать, — пишет Тойнби, — что в этом отрывке, изложенным блестящим стилем, выражено лишь тщеславие ученого, потому что автор является либералом и формулирует кредо, которое либерализм переносит из теории в действие... В девятнадцатом веке христианской эры, когда еще казалось, что у западного человека все в порядке, эта современная вера во всемогущество Случая породила политику laissez-faire...». (Почему вера в прогресс, за который мы сами несем ответственность, должна породить веру во всемогущество Случая, или почему она должна породить политику laissez-faire, Тойнби оставляет неразъясненным.)
28 Под «реалистичностью» выбора наших целей я понимаю то, что нам следует выбирать цели, которые могут быть реализованы в течение приемлемого промежутка времени, и что нам следует избегать далеких и смутных утопических идеалов, если только они не определяют непосредственные и значимые сами по себе цели. В этой связи см. особенно принципы постепенной, поэтапной (piecemeal) социальной инженерии, обсуждавшиеся в главе 9.
Рукопись тома 1 первого издания этой книги была полностью
закончена в октябре 1942 г., а рукопись тома 2 —
в феврале 1943 г.
ДОПОЛНЕНИЯ
I
ФАКТЫ, НОРМЫ И ИСТИНА:
ДАЛbНЕЙШАЯ КРИТИКА РЕЛЯТИВИЗМА
(1961)
Интеллектуальный и моральный релятивизм — вот главная болезнь философии нашего времени. Причем моральный релятивизм, по крайней мере частично, основывается на интеллектуальном. Под релятивизмом или, если вам угодно, скептицизмом я имею в виду концепцию, согласно которой выбор между конкурирующими теориями произволен. В основании такой концепции лежит убеждение в том, что объективной истины вообще нет, а если она все же есть, то все равно нет теории, которая была бы истинной или, во всяком случае, хотя и не истинной, но более близкой к истине, чем некоторая другая теория. Иначе говоря, в случае двух или более теорий нет никаких способов и средств для ответа на вопрос, какая из них лучше.
В этом «Дополнении»1 я, во-первых, намереваюсь показать, что даже отдельные идеи теории истины А. Тарского2, усиленные моей теорией приближения к истине, могут способствовать радикальному лечению этой болезни. Конечно, для этой цели могут потребоваться и другие средства, например, неавторитар-кая теория познания, развитая в некоторых моих работах3.
Во-вторых, я попытаюсь продемонстрировать (в разделе 12 и следующих), что положение в мире норм — особенно в его моральной и политической сферах — в чем-то схоже с положением, сложившимся в мире фактов.
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 23 | | | ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 25 2 страница |