
Читайте также:
|
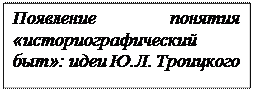 Новое в историографической практике понятие «историографический быт» появилось в 1995 г. в выступлении Ю.Л. Троицкого на одной из омских конференций. Внедряя одним из первых понятие «историографический быт», историк вполне резонно объяснял, что практика историографических исследований того времени свидетельствовала об отставании этой сферы исторического знания от современных требований к гуманитаристике. Сложившаяся ситуация, когда, по словам автора, «иные историографические работы неотличимы от аннотированной библиографии», требовала конструктивных изменений историографического нарратива. Как представляется, заявленные претензии к методологии историографических исследований, могли быть обращены, в первую очередь, к работам, выполненным в стиле так называемой «проблемной историографии», преобладавшим в исторической науке советского времени. Скудость и невыразительность научного языка историографа, ограниченность представлений о пространстве предметной области историографии, по его мнению, привели к специфическому методологическому парадоксу – «почти слитости (так в тексте – Н.А.) исторических исследований и историографических описаний» [50].
Новое в историографической практике понятие «историографический быт» появилось в 1995 г. в выступлении Ю.Л. Троицкого на одной из омских конференций. Внедряя одним из первых понятие «историографический быт», историк вполне резонно объяснял, что практика историографических исследований того времени свидетельствовала об отставании этой сферы исторического знания от современных требований к гуманитаристике. Сложившаяся ситуация, когда, по словам автора, «иные историографические работы неотличимы от аннотированной библиографии», требовала конструктивных изменений историографического нарратива. Как представляется, заявленные претензии к методологии историографических исследований, могли быть обращены, в первую очередь, к работам, выполненным в стиле так называемой «проблемной историографии», преобладавшим в исторической науке советского времени. Скудость и невыразительность научного языка историографа, ограниченность представлений о пространстве предметной области историографии, по его мнению, привели к специфическому методологическому парадоксу – «почти слитости (так в тексте – Н.А.) исторических исследований и историографических описаний» [50].
В то же время Ю.Л. Троицкий подчеркивал необходимость обновления широкого методологического пространства истории исторической науки, включающего и предметное поле, и тезаурус историографии. Необходимость выработки метаязыка данной области исторического знания потребовала создания некоего исследовательского конструкта, при помощи которого можно было бы выработать адекватный задачам историографии научный инструментарий и выйти из кризисной ситуации историографического знания. Понятие «историографический быт», по мысли автора, призвано было сыграть подобную роль.
Он заимствует литературоведческий теоретический опыт современных ученых (в частности, идеи литературоведа В. Тюпы) и, вероятно, опирается на теоретические построения выразителей «новой интеллектуальной истории» и семиотики, в частности, Х.Уайта, Р. Барта, Й. Рюзена. В лаконичной схематической форме (в виде «историографического треугольника») Ю.Л. Троицкий представил «историографический быт» и как инструмент описания структуры историографического знания, и как выражение некоей интеллектуальной коммуникации. Предлагаемая понятийная конструкция, по его версии, отражает взаимосвязь процессов и форм происхождения исторического знания, способы его трансляции в общественную среду и восприятия как социумом (читателем), так и корпоративным сообществом.
Понятие «историографический быт», по Ю.Л. Троицкому, нагружено довольно широким спектром характеристик. Кроме вышеизложенного, оно наделяется функцией описания историографических жанров, с характерными для литературоведческих исследований наблюдениями за жанровой эволюцией. Вводит он и дополнительное понятие историографического письма, характерного для изучаемой эпохи, учитывает различные типы научных коммуникаций историков. Всё перечисленное в совокупности образует, если следовать логике рассуждений автора, новые сегменты предметного поля историографии и ставит перед историей исторической науки оригинальные задачи, возникающие как результат методологических устремлений этой научной области, фокусирующих внимание на точке соприкосновения собственно научной деятельности историка и ее «бытового» контекста. Приведенный перечень аспектов, входящих в предлагаемое историографическое понятие свидетельствует, что автор был довольно последователен в деле перенесения в область историографии целого ряда ее литературоведческих аналогов. Однако все же сохраняется вопрос относительно того, насколько все они органичны природе историографического знания.
Последующий опыт восприятия и применения данной категории в историографических исследованиях отражает процесс корректировки и наполнения ее новыми элементами смысла и содержания [51]. Вместе с тем следование, или интуитивное, или специально не подчеркиваемое, литературному прообразу «историографического быта» сохраняется на протяжении всего времени с момента его применения в историографии. Это дает основание считать имеющийся опыт использования изучаемого междисциплинарного заимствования как устойчивую традицию.
В историографической практике, связанной с обращением к идее историографического быта, выделяется исследовательский опыт В.П. Корзун, с характерным для нее стремлением реализовать в сфере историографии методологические подходы культурной истории. Проблему историографического быта она затрагивает в те же 1990-е годы. В 1995 г., проецируя взгляд на историографическое сообщество с позиций задач историко-культурных исследований, В.П. Корзун также обращается к понятию «историографический быт», пытаясь задать контуры его определения. Категория «историографический быт» воспринималась ею как один из способов исследования «внутреннего мира культуры», к которому историография принадлежит как история исторической науки. Рассматривая «историографический быт» в качестве структурообразующей категории, В.П. Корзун, в первую очередь, видела в ней «понятие, описывающее структуру историографического знания как определенную коммуникативную целостность». Другой акцент его восприятия подчеркивался перспективами применения новой категории в целях исследования «непрофессиональных форм самовыражения историков». «Историографический быт» рассматривался при этом в качестве одного из инновационных подходов, ориентированных «на междисциплинарность и постоянное расширение предмета историографии» [52].
Подчеркнем, что первые толкования историографического быта, возникшие в рамках омской историографической традиции, связывали с этой конструкцией эпистемологический, науковедческий и культурологический потенциал историографии. Однозначно новая категория провоцировала историографов на актуализацию проблем предметного пространства историографии.
В дальнейших работах омских историографов понимание содержания историографического быта корректируется, предпринимаются попытки вписать в интерьер историографического быта схоларные процессы[53], разнообразные поведенческие и коммуникативные практики, характерные для корпорации российских историков. Постепенно вырабатывается методология современного историографического исследования, в котором изучение индивидуальных и корпоративных поведенческих стратегий научного сообщества историков, превращается в актуальную историографическую проблематику. Развитие исторической науки, общая картина выработки и состояния исторического знания уже не мыслятся без учета вненаучных процессов, в лоне которых формируются и качества творческих личностей, и судьбы их научных произведений.[54]
Показательна интересная статья А.В. Свешникова, рассмотревшего ценностно-культурные формы и мотивации поведения ученых-историков с позиций этических норм и традиций научной жизнедеятельности профессионального сообщества.[55] Апеллируя к категории «этос науки» и рассматривая ее в соотношении с социокультурными основаниями творческой деятельности ученых, автор выделяет в науке «центральное ядро» и «периферию». Не используя термин «историографический быт», он под «периферией» понимает «все то, что не связано явно с процессом познания», оговаривая одновременно, что «четкой границы между собственно научной деятельностью и производным от нее бытом (курсив наш – Н.Алеврас) провести невозможно»[56]. Можно предполагать, что перед нами попытка обратиться к идеям и терминологии Ю.Н. Тынянова ((замечу, автор не делает на этот счет специальных ссылок)), в то время как историографы-предшественники в большей мере, на наш взгляд, следовали линии Б.М. Эйхенбаума[57].
Предложенный А.В. Свешниковым подход интересен не только «тыняновскими» акцентами, но и закономерным при разговоре об историографическом быте обращением к «этосу науки», что специально не подчеркивалось в предыдущих интерпретационных опытах с новой категорией. В наблюдениях за «периферией» научного пространства он выходит на вопросы внутреннего мира ученых, их жизненных ценностей, личностно-персонального своеобразия, затрагивая, в том числе, и такие интимные аспекты творчества, как характер их талантливости. Связывая в единую цепь проявления социальных кризисов, переосмысление представителями научного сообщества ценностных жизненных установок, смену характера и форм их взаимоотношений, А.В. Свешников оперирует еще одним понятием – «значимое поведение». Контекст авторских пояснений позволяет воспринимать его в традициях ментальной истории. Это обозначение, на наш взгляд, соотносится с наблюдениями и характеристиками Ю.М. Лотмана относительно социокультурных типологий поведения человека[58]. Сам же автор предпочел использовать понятие «габитус», введенное П. Бурдье в изучение социальной реальности. Габитус, как его понимает Свешников применительно к исследованию пространства научной жизни, идентифицируемого как историографический быт, это некие правила поведения, воспринимаемые в научном сообществе с позиций «этоса науки» и выступающие, «как обязательная органическая часть традиции, хотя не всегда рационально объяснимая». Стоит подчеркнуть при этом, что для автора статьи «этос науки» определяет, в конечном итоге, жизненную стратегию и стереотипы поведения ученого, как в собственно научной деятельности, так и на уровне научного быта[59].
С позиций предложенного подхода образы главных героев статьи А.В. Свешникова – М.С. Корелина и Л.С. Карсавина – предстают как выражение и результат различных ценностных научно-бытовых ориентаций. По мысли автора, разность судеб историков, характер их талантов, тип восприятия своих учителей и даже длительность жизненной стези не в последнюю очередь оказываются связанными с их отношением к бытовому контексту научной жизни. Научная целеустремленность Корелина и «бескомпромиссное» стремление следовать ценностному ряду науки через «преодоление самого себя» – это один, принятый Корелиным, идеал жизни в науке, когда человек пытается сознательно дистанцироваться от «быта» (удается ли ему от него уйти – другой вопрос). Противоположный стиль жизни характерен для Карсавина, ученого со сложной траекторией научного выбора, человека конфликтного, не пугавшегося перспектив остаться в положении историка-маргинала. Научная деятельность его органично связана с комплексом экзистенциальных оснований и интенций, сердцевину которых составляли его религиозно-мировоззренческие ценности. «В описаниях современников Карсавин часто предстает погруженным в быт, где чувствует себя органично», – констатирует А.В. Свешников. Он заключает, имея в виду и то, что историки принадлежали разным эпохам, поколениям и пережили в науке различные ее ситуативные состояния: «Корелин, в первую очередь, ученый, Карсавин – человек»[60]. Образ первого – это выражение «должного», образ же второго – подвижен, контекстуален. А.В. Свешников видит, на наш взгляд, в своих героях некие универсальные характеристики, которые позволяют, подобно литераторам, создавать типажи представителей науки на основе их ценностного выбора, на весы которого положена «чистая» наука и наука, органично включенная в социальный жизненный контекст.
Вполне очевидно, что идеи А.В. Свешникова формировались в ситуации, характерных для рубежа XX-XXI вв. активных обсуждений проблем теории и методологии историографии и сказались на дальнейшей практике использования понятия «историографический быт». В это же время появляется монография М.П. Мохначевой, которая, позитивно принимая новую категорию, образно представляет «историографический быт» как «… «тело» историографии или все то, что питает, организует, формирует историческую концепцию и облекает ее в формы, годные для коммуникации…»[61]. Сам термин она воспринимает в качестве «рабочего», очевидно предполагая необходимость более глубокого проникновения в его смысл. В предложенной же характеристике автора историографический быт, представленный ею как «тело» историографии, занимает, можно полагать, существенную часть предметного пространства историографии. Примечателен при этом прозвучавший акцент на «историческую концепцию». Заметим, что это понятие в предшествующих определениях историографического быта не фигурировало, поскольку оно выходит, если воспользоваться терминологией Свешникова, за пределы историографической «периферии» и составляет сугубо научный, а не бытийный элемент историографической повседневности.
Существенная часть исследования М.П. Мохначевой, посвященная «формам сотворчества интеллигенции», в том числе знаменитым «журфиксам», строится, как нам представляется, на основе позиции, близкой Эйхенбауму. Автор пытается представить журналистику как «идейно-познавательный процесс», развертывающийся на разных «уровнях» ее бытования. Имея в виду «делательный», по ее выражению, характер всех типов уровней, она выделяет такие их составляющие как «профессионально-институциональный», «социетальный, или общесоциальный ихфессионально-институциональныйие как "ивной деятельностикультуры, творящего научную мысль» уровни, трактуя их, одновременно, как формы «бытования» журналистики. В этом «бытовании» для автора соединяются воедино процессы самоутверждения творческой личности в профессиональной среде, самоорганизации творческих сил журналистики в виде свободных (неформальных) социальных институтов и другие проявления жизненной практики функционирования этого культурного феномена, включающие, в том числе, фиксацию и трансляцию посредством журналистики историко-научного знания[62].
В ряде статей и в монографии В.П. Корзун, появившихся в самом начале нового столетия, вносятся некоторые уточнения в понимание «историографического быта» относительно тех формулировок, которые возникли в 1990-е годы. Теперь в трактовках историографического быта особо подчеркивается поведенческая составляющая корпоративной культуры, акцентируются возможности обращения к этой стороне исторической науки с позиций повседневной истории. Интересующая нас категория воспринимается в первую очередь как «неявно выраженные правила и процедуры научной жизнедеятельности, являющиеся важными структурирующими элементами сообществ ученых». Поясняя эту формулировку, историограф подчеркивает перспективы применения данного понятия в качестве познавательного инструмента, позволяющего «реконструировать научную каждодневность и расширить проблематику историографического исследования, в частности – субъективного фактора в развитии науки».[63] Методология историографического описания, целенаправленно встраиваемого В.П. Корзун в научно-исторический «бытовой» контекст, пополняется понятийными инструментами современной социологии. Она также обращается к социологии Бурдье. В частности, сравнительный анализ образов двух петербургских историков – С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского – осуществляется ею с опорой на понятие габитус («habitus»). Трактуя его как выражение духовных привычек, усвоенных личностью в процессе социализации, она разводит историков по разным социокультурным нишам их общего историко-научного пространства, поскольку они сделали несовпадающий выбор интеллектуальной атмосферы, среды и форм научного общения[64].
Принимая идеи Ю.Н. Тынянова – А.В. Свешникова, В.П. Корзун также опирается на понятия: «центральное ядро» и «периферия» научной традиции. Под «периферией» она понимает «жизненную и поведенческую практику», что, вероятно, можно соотнести с важнейшими характеристиками историографического быта. Но для нее базовое различие научных стратегий ученых связано с «различным видением идеалов науки». Именно эти идеалы, определяя ценностные установки ученых, оказывают воздействие и на «периферию» научной жизни.[65]. Таким образом, в трудах А.В. Свешникова и В.П. Корзун складывается образ сложной системы пространства научного сообщества. В нем улавливается органическая связь двух сфер бытия науки, одна из которых реализует преимущественно творческо-интеллектуальную функцию, другая формирует социокультурный «бытовой» контекст, определяющий стилевые особенности творческого процесса в науке. Пересекаясь и взаимодействуя, две сферы не могут существовать друг без друга, границы, их разделяющие, условны, результатом их взаимодействия становятся историографические феномены, которые существуют подобно диалектике отношений содержания и формы.
Современные исследователи литературного быта, задавая проблеме культурологический ракурс, рассматривают культуру как «многоярусную» конструкцию. Они полагают, что «если высшее ее проявление – искусство, то «культура быта» – ее фундамент, кирпичи, из которых здание строится»[66]. Применительно к области науки, в частности историографии, данное метафорическое суждение можно приложить по методу аналогии. Если на «ярус» «искусства» поставить историко-научное творчество, воспринимая его как искусство мысли и создания образов ушедшей в прошлое историографической реальности, то уровень «фундамента» с его «строительным материалом» займет историографический быт. Логика этих сопоставлений может нас вернуть к упомянутому выше сравнению М.П. Мохначевой историографического быта с «телом» историографии.
Заметим вместе с тем, что все, кого можно отнести к родоначальникам понятия «историографический быт», явно не апеллировали к литературоведческим исканиям в области «литературного быта» и не связывали напрямую эти две категории.
Феномен историографического быта привлек мое внимание еще в 1990-е годы, но более выразительная рефлексия обозначилась в недавних публикациях[67]. В первом случае был представлен опыт осмысления особого стиля научной жизни историков, поставивших себя вне схоларных процессов и выработавших режим творческой деятельности в рамках научной автаркии. Подразумевая бесконечность вариаций и моделей самовыражения и самоутверждения ученого в корпоративной и социальной среде, была предложена интерпретация специфики научного индивидуализма небольшой галереи историков. Типаж «индивидуалистической культуры» в историографии выступает в данном случае как одно из проявлений историографического быта.
Второй обозначенный сюжет, связанный с предметом историографии и категорией «историографический быт», вытекал из статьи о «своей игре». Обозначая «историографическим бытом» «экзистенциальное пространство творческой деятельности и коммуникативных практик сообщества ученых-историков» и связывая с этой категорией «проявления научной жизни историков в потоке их научной повседневности»[68], хотелось обратить внимание на методологический потенциал данной категории. Были выделены ее онтологическая и гносеологическая функции, позволяющие рассматривать историографический быт как познавательный инструмент истории исторической науки.
При обсуждении вопросов историографического быта на историографической секции международной научной конференции «Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век» (ноябрь, 2008) выявился, с одной стороны, интерес к этому вопросу, с другой – различное понимание того, что такое «историографический быт». В результате обсуждения передо мной, как автором доклада, встало несколько вопросов. Если «историографический быт» это термин, выражающий научный феномен прошедшей реальности, то какую область жизни и деятельности ученого он фиксирует? Каково его смысловое содержание? Если это интеллектуальный конструкт историографической природы, то каковы его познавательные возможности? Один из вопросов, последовавших после выступления, ориентировал на необходимость обратиться к его прообразу – «литературному быту».
Памятуя долгую историю разработки, не простую, хотя и не самую несчастливую, судьбу «литературного быта»[69], выразим надежду, что заинтересованные исследователи историографических историй, во-первых, продолжат свои наблюдения за бытовой стороной истории исторической науки, во-вторых, внесут свою лепту в укрепление тезауруса историографии посредством углублений в смысл «историографического быта» и уточнений его дефиниции.
Мы же выскажем наблюдение, основанное на многочисленных уже контекстах использования (явного или подразумеваемого) понятия «историографический быт»[70]. Историографы, зачастую, даже не зная подробностей из истории опыта в деле разработок дефиниции, которая бы выразила соединенные творческие усилия человека на научно-профессиональном поприще и в потоке каждодневной жизни, существенно расширили представление о «быте» науки. Если «литературный быт» Эйхенбаума нередко интерпретируется как выражение социального контекста развития литературного процесса[71], то современные историографы, как нам представляется, не ограничивают понимание историографического быта только социальными аспектами бытия науки. Историографический быт воспринимается, конечно, в ракурсе социологии творчества историка, но все же, не в последнюю очередь, рассматривается как концентрированное выражение всех жизненных изгибов в судьбе ученого, которые воздействуют на процесс сотворения исторического знания. Вероятно, с позиций исторической эпистемологии историографический быт точнее было бы трактовать посредством идей исторической герменевтики и философии феноменологической школы. Принцип герменевтического «понимания», соединенный с феноменологической установкой следовать интенциональности сознания познающего, формирует экзистенциалистский подход и задает, одновременно, культурологический угол зрения. Это и позволяет погрузиться в жизненный мир ученого. Однако такого рода погружение подчинено главной историографической задаче, нацеленной на конструирование образа исторической науки и образов ее творцов – ученых-историков.
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав