
Читайте также:
|
Франц Грильпарцер
В июле месяце каждого года в воскресенье после полнолуния и на следующий день в Вене бывает большой праздник, который, в отличие от многих других, по праву можно назвать настоящим народным праздником. Народ сам назначил его в этот день и сам празднует его, а если там и появляются особы знатного происхождения, то разве лишь уподобившись ради такого случая людям из народа, ибо возможности обособиться у них все равно там нет никакой, - во всяком случае, еще несколько лет тому назад не было.
В этот день в Бригиттенау справляют храмовый праздник, но веселятся и в Аугартене, и Леопольдштадте, и на Пратере. Давно уже трудовой люд считает дни от одного праздника св.Бригитты до другого. Наконец долгожданные сатурналии наступают. В спокойном добропорядочном городе начинается волнение. Бурная толпа заполняет улицы. Слышится шум шагов, людской говор, то здесь, то там громкие выкрики. Рамки сословий стираются: бюргеры и солдаты разделяют всеобщее возбуждение. Давка у городских ворот все усиливается. Проход берут с боя, сдают и опять берут. На мосту через Дунай 
возникают новые препятствия. Но вот и здесь одержана победа, и в конце концов оба столкнувшиеся потока — старый Дунай в своем древнем русле — внизу, и полноводная людская река, вырвавшаяся из горловины моста,— вверху, образуют бурное, широко разлившееся и затопляющее все вокруг мope. Человеку приезжему подобное волнение показалось бы весьма подозрительным. Но это лишь взрыв раскованного веселья и буйного восторга.
Между городом и мостом уже выстроились линейки с истинными жрецами этого церковного празднества: детьми службы и труда. Повозки эти переполнены, но тем не менее нм удалось галопом пробиться сквозь толщу толпы, которая беспечно и благосклонно расступалась перед ними и снова сливалась позади. В Вене существует молчаливый союз между такими пешеходами и кучерами: даже на полном ходу повозки не сбивают людей, а люди, даже самые неосторожные, не дают повозкам сбивать себя с ног.
С каждой секундой промежутки между линейками становятся все меньше и меньше. Вот уже несколько экипажей знатных особ смешались с праздничной процессией, на пути которой возникает так много препятствий. Линейки движутся шагом. Наконец за пять-шесть часов до наступления ночи отдельные экипажи и повозки образуют плотную вереницу, которая, продвигаясь и без того медленно, задерживается к тому же притоком новых подъезжающих изо всех переулков, чем явно опровергает старинную пословицу: «Лучше ехать шажком, чем идти пешком».
В этих кажущихся неподвижными колясках сидят разряженные женщины, и толпа глазеет на них, сочувствует им и смеется над ними. Непривычный к беспрерывным остановкам, голштинский вороной то и дело встает на дыбы, словно хочет перескочить через едущую впереди и загораживающую ему дорогу плебейскую повозку, чем немало пугает крикливых женщин и детей, сидящих в ней. Кучеру стрелою подлетевшего фиакра впервые, вопреки своей природе, приходится останавливаться, и он мрачно высчитывает убытки, ибо на расстояние, которое обычно он пролетает за пять минут, ему теперь требуется три часа. А вокруг — перебранка, крик, взаимный обмен любезностями кучеров, порою удар кнута.
Наконец, как и повсюду в этом мире, где каждая безнадежная остановка есть на самом деле незаметное продвижение вперед, и в этом statusquo заблистал луч надежды. Вот уже показались первые деревья Аугартена и Бригиттенау. Земля! Земля! Земля! Забыты все мучения. Те, кто приехал в колясках, вылезают и смешиваются с пешеходами; издали доносятся звуки танцевальной музыки, которой вторят ликующие возгласы вновь прибывших. Шум все нарастает, и наконец отворяется обширная гавань радостей, и лес и луг, музыка и танцы, вино и яства, китайские тени и канатоходцы, иллюминация и фейерверк сливаются в одну pays de cocagne, некое Эльдорадо, настоящую страну с молочными реками и кисельными берегами, которая,— к сожаленью ли, к счастью ли, как угодно,— существует всего два дня, потом исчезает, подобно сну в летнюю ночь, и остаемся разве только в воспоминаниях и мечтах.
Мне тоже трудно было бы отказаться от участия в этом празднике. Ведь я страстно люблю людей, особенно из народа, и мне как драматургу неудержимый порыв переполненного зрительного зала всегда был в десять раз милее и поучительнее, чем заумное суждение литературного матадора, эдакого урода душой и телом, распухшего, словно паук, от выпитой им крови авторов. Особенно я люблю людей, когда они, сойдясь толпой, забывают на некоторое время о своих личных намерениях и чувствуют себя частью единого целого, в котором ведь по сути и заложено нечто божественное,— именно поэтому каждый народный праздник и представляется мне истинным праздником души, и я отправляюсь на него, как в паломничество, как на молитву. Веселое или втайне озабоченное лицо, жизнерадостная или подавленная походка, сложные отношения членов семьи друг к другу, невольные восклицания — все это для меня подобно грандиозному, вышедшему из рамок книги Плутарху, рассказывающему мне биографии ничем не замечательных людей, и — подумать только! — ведь невозможно понять человека замечательного, не прочувствовав души простого. От перебранки подгулявших тачечников невидимая, но беспрерывная нить тянется к распре небожителей, а в юной служанке, которая в угоду своему настойчивому возлюбленному нехотя покидает толпы танцующих, скрыты задатки Джульетты, Дидоны или Медеи.
Года два тому назад, как и обычно, я в качестве пешехода примкнул к жаждущим наслаждений участникам празднества. Главные трудности моего паломничества остались уже позади, я находился в самом конце Аугартена, и передо мной расстилался желанный Бригиттенау. Здесь предстоял еще один, хотя и последний, бой. Единственный путь, по которому можно было добраться из одного празднующего местечка в другое, пролегал по узкому проулку между огороженными участками. На границе с Бригиттенау стояли деревянные решетчатые ворота. В обычные дни и для обычных гуляющих ширина их более, чем достаточна. В день же праздника она, даже если увеличить ее раза в четыре, оказалась бы все-таки слишком мала для бесконечного потока людей, стремящихся в одну сторону и к тому же сталкивающихся со встречным потоком. Лишь благодаря всеобщему добродушию толпа в конце концов кое-как протискивается через эти ворота.
Итак, я отдался общему течению и очутился в середине улочки, так сказать уже на твердой земле, но, к сожалению, был вынужден беспрестанно останавливаться, ждать и вновь зигзагами двигаться вперед. Зато у меня было достаточно времени для того, чтобы рассмотреть все окружающее. Жаждущая наслаждений толпа не страдала от слишком долгого ожидания предвкушаемого блаженства, — об этом уже позаботилось несколько музыкантов, выстроившихся у края немного приподнятой, широкой проезжей части и, видимо, во избежание большой конкуренции, надеявшихся здесь же, у самого входа, пожать первые плоды еще неистощившейся людской щедрости. Тут была и арфистка с неприятным недвижным взглядом, и старый инвалид на деревянной ноге, пытавшийся игрой на ужасном, очевидно самодельном инструменте — полушарманке, полуцимбалах — вызвать всеобщее сочувствие к своим страданиям, а на самом деле заставлявший присутствующих страдать от ПОДОбНОЙ музыки, и хромой горбатый мальчик, словно слившийся со своей скрипкой в один неразличимый клубок и безостановочно игравший вальс, напрягая свою уродливую чахоточную грудь. Наконец здесь стоял, — он-то и привлек к себе все мое внимание, — в потертом, но чистом шерстяном сюртуке старик лет семидесяти, который все время улыбался, словно был необычайно доволен собой. Лысый, с непокрытой головой, он стоял здесь, по примеру всех других музыкантов положив вместо копилки перед собой на землю шляпу, и играл на старой, дребезжащей скрипке, отмечая при этом такт не только притоптыванием, но и соответствующим покачиванием всего сгорбленного тела. Однако его старания придать своему исполнению какую бы то ни было цельность были бесполезны; то, что он играл, казалось совершенно бессвязным чередованием звуков, лишенных ритма и мелодии. Но, несмотря на это, он был целиком погружен в свое занятие: губы его вздрагивали, взгляд —  неподвижно устремлен на расположенные перед ним ноты,—да, настоящие ноты! В то время как все другие музыканты, игравшие несравненно лучше, полагались на собственную память, тот старик поставил перед собой в самой давке маленький переносный пюпитр с грязными разорванными нотами, в которых, по всей вероятности, в отменном порядке содержалось все то, что он исполнял без всякой связи. Необычность этой картины и привлекла мое внимание, вызывая в то же время насмешки проходящих мимо людей. Шляпа старика, приготовленная для милостыни, оставалась пустой, тогда как другие музыканты собирали целые кучи меди. Для того чтобы спокойно понаблюдать за этим оригиналом, я встал в некотором отдалении от него на краю дороги. Старик продолжал играть еще несколько минут. Наконец он окончил, посмотрел, словно приходя в себя, на небо, возвещавшее уже о наступлении ночи, затем вниз на свою шляпу, увидел, что она пуста, надел ее все с той же неомраченной веселостью, воткнув смычок под струны, сказал: «Sunt сerti denique fines» [1] , взял свой нотный пюпитр и с видом человека, возвращающегося домой, стал усердно проталкиваться в противоположном направлении сквозь толпу, устремившуюся на праздник.
неподвижно устремлен на расположенные перед ним ноты,—да, настоящие ноты! В то время как все другие музыканты, игравшие несравненно лучше, полагались на собственную память, тот старик поставил перед собой в самой давке маленький переносный пюпитр с грязными разорванными нотами, в которых, по всей вероятности, в отменном порядке содержалось все то, что он исполнял без всякой связи. Необычность этой картины и привлекла мое внимание, вызывая в то же время насмешки проходящих мимо людей. Шляпа старика, приготовленная для милостыни, оставалась пустой, тогда как другие музыканты собирали целые кучи меди. Для того чтобы спокойно понаблюдать за этим оригиналом, я встал в некотором отдалении от него на краю дороги. Старик продолжал играть еще несколько минут. Наконец он окончил, посмотрел, словно приходя в себя, на небо, возвещавшее уже о наступлении ночи, затем вниз на свою шляпу, увидел, что она пуста, надел ее все с той же неомраченной веселостью, воткнув смычок под струны, сказал: «Sunt сerti denique fines» [1] , взял свой нотный пюпитр и с видом человека, возвращающегося домой, стал усердно проталкиваться в противоположном направлении сквозь толпу, устремившуюся на праздник.
Весь облик этого старика был словно создан для того, чтобы до крайности подогреть во мне любопытство антрополога. В нем поражало все – его убогая и вместе с тем благородная внешность, несокрушимая веселость, бесподобная любовь к искусству при полной беспомощности в игре; и то, что он именно сейчас, когда для других, ему подобных, только начинался настоящий заработок, отправился домой; и наконец немногие, но совершенно свободно и с верными ударениями произнесенные латинские слова. Этот человек, следовательно, получил тщательное образование, обладает определенными знаниями, и вдруг — нищий музыкант! Я сгорал от нетерпения найти во всем этом какую-то взаимосвязь,
Но в это время густой людской поток уже разделил нас. Маленький, мешая своим пюпитром всем прохожим, всех толкая и всеми толкаемый, он уже скрылся за решеткой ворот, а я все еще боролся со встречным потоком в середине проулка. Так я потерял его из вида, а когда наконец, сам выбрался на волю, то музыканта пропал и след.
Неудавшееся приключение отбило у меня всякий интерес к празднику. Я обошел Аугартен по всем направлениям и решил вернуться домой.
Подойдя к маленькой калитке, ведущей из Аугартена на Таборштрассе, я вдруг снова услышал знакомый звук старой скрипки. Я ускорил шаги, и — смотрите-ка! — предмет моего любопытства стоял там, играя изо всех сил, в окружении мальчишек, нетерпеливо требовавших от него вальса,
– Играй вальс! — кричали они. — Вальс, ты что, не слышишь, что ли?
А старик продолжал играть, словно не обращая на них внимания, пока толпа маленьких слушателей с насмешками и ругательствами не убежала от него к шарманщику, установившему поблизости свою шарманку.
– Они не хотят танцевать, — печально сказал старик, собирая свою музыкальную утварь.
Я подошел к нему совсем близко,
– Дети же не умеют танцевать никаких других танцев, кроме вальса, — заметил я.
– А я и играл вальс,— ответил он, показав смычком на нотном листе только что исполненное им место. — Приходится ведь и такое играть в угоду толпе. Но у детей нет слуха, — добавил он, грустно качая головой.
– Разрешите мне тогда в какой-то мере возместить их неблагодарность,— сказал я, достав из кармана серебряную монету и протягивая ему.
– Пожалуйста! Пожалуйста! – воскликнул старик, словно испуганно отмахиваясь обеими руками. — Только в шляпу! шляпу!
Я положил монету в лежавшую перед ним шляпу, откуда старик сразу же ее вынул и с довольным видом сунул в карман.
– Это называется идти домой с богатой выручкой,— сказал он улыбаясь.
– Кстати,— заговорил я,— вы напомнили мне об одном обстоятельстве, которое еще раньше возбудило мое любопытство! Ваш сегодняшний доход, кажется, не из крупных, а между тем вы уходите как раз в тот момент, когда начинается настоящий урожаи. Ведь праздник продолжается, как вам известно, всю ночь, и вы могли бы там выручить больше, чем за целую неделю. Как это объяснить?
— Как это объяснить? — повторил старик. — Простите, я не знаю, кто вы, но, видимо, вы добрый человек и любите музыку,— при этом он снова достал серебряную монету из кармана и стиснул ее в руках, прижав их к груди, — Поэтому мне хочется объяснить вам причины, хотя меня часто за это высмеивают. Во-первых, я никогда не гуляю по ночам и считаю, что не имею права воспитывать своей игрой и пением подобную привычку и у других. Во-вторых, человек должен во всем соблюдать определенный порядок, иначе он впадает в дикость и безудержность. Наконец, в-третьих, сударь, весь день я играю для людей, не умеющих слушать, и при этом едва зарабатываю на кусок хлеба. Но вечер принадлежит мне и моему бедному искусству. Да, вечера я провожу дома, и… — речь его становилась все тише, лицо покраснело, взор потупился,— и тогда я играю для себя, без нот, Импровизирую, как это, кажется, называется в учебниках музыки.
Мы оба молчали. Он — стыдясь раскрытия своей сокровенной тайны, я — пораженный тем, что человек, который только что был не в состоянии сыграть простейшего вальса, говорит сейчас о высочайших ступенях искусства. Между тем он собрался уходить.
— Где вы живете? — спросил я. — Мне бы хотелось как-нибудь присутствовать при ваших занятиях.
— О,— возразил он почти умоляюще,— вы же знаете, молиться нужно наедине.
— Тогда я хочу зайти к вам днем,— сказал я.
— Днем,— отвечал он,— я добываю у людей себе на пропитание.
— Хорошо, тогда утром.
– Это выглядит так,— сказал старик, смеясь,— будто вы милостивый государь, проситель, а я, если так позволите выразиться, ваш благодетель. Вы так любезны, а я так непозволительно упрям. Ваш почтенный визит сделает честь моему жилищу. Только я просил бы вас великодушно назвать мне заранее день, когда вы пожелаете прийти, чтобы вам ничто не помешало, да и мне не пришлось бы несвоевременно прервать какое-либо начатое дело. Ведь по утрам я тоже занят. Во всяком случае, я считаю своим долгом достойным образом вознаграждать моих доброжелателей и благодетелей за подаяние. Я не нищий, милостивый государь. Я отлично знаю, что прочие уличные музыканты удовлетворяются тем, что играют все время одни и те же выученные наизусть песенки, немецкие вальсы и даже вовсе непристойные мелодии, так что им подают либо потому, что хотят от них отделаться, либо потому, что их игра оживляет воспоминания о былых наслаждениях, связанных с танцами и другими неподобающими забавами. Вот они и играют наизусть и при этом частенько фальшивят. Я же далек от подобного обмана. Память у меня вообще не из лучших, да и не всякий легко запомнит ноту за нотой столь путаные творения уважаемых композиторов, – поэтому я и переписал их собственноручно вот в эти тетради.
И он показал мне, перелистывая, ноты, где я с ужасом увидел написанные аккуратным, но отталкивающе грубым почерком невероятно сложные сочинения знаменитых старых мастеров, причем ноты эти были совершенно черны от пассажей и двойных аккордов. И подобные вещи старик разыгрывал своими неловкими пальцами!
— Исполняя эти произведения,— продолжал он,— я свидетельствую о своем уважении к давно уже умершим мастерам, в зависимости от их положения и достоинства, получаю удовольствие сам и живу приятной надеждой, что щедрые дары моих слушателей вознаграждаются облагораживающим воздействием на их душу и вкус, часто испытывающих иные, ложные влияния. Но для этого, — тут на его лице появилась самодовольная улыбка, — надо упражняться; вот почему мои утренние часы принадлежат исключительно занятиям. Три часа утром — упражнения, днем — я добываю свой хлеб, а вечер принадлежит мне и господу богу, — такое распределение, право, справедливо,— заключил он, и глаза его при этом увлажнились. Но он по-прежнему улыбался.
— Хорошо,— сказал я,— в таком случае я как-нибудь утром нагряну к вам. Где вы живете?
Он назвал мне Гсртнергаесс.
— Номер дома?
— Тридцать четыре, этаж первый.
– В самом деле? — воскликнул я, — Ведь это же этаж богачей!
— А дом, собственно, и состоит только из одного нижнего этажа. Но наверху, рядом с чердаком, есть еще маленькая комнатка; в ней я и живу с двумя подмастерьями.
— 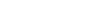 Одна комната на троих?
Одна комната на троих?
— Мы ее разделили,— ответил он,— и у меня есть своя собственная кровать.
— Уже поздно, а вы собирались домой. До свиданья! — сказал я и с этими словами полез в карман, чтобы по крайней мере удвоить выданную ранее слишком маленькую сумму. Но он схватил одной рукой пюпитр, другой — скрипку и поспешно воскликнул:
— Разрешите вам запретить это. Гонорар за свою игру я уже получил сполна, большего же я пока не заслужил.
 При этом он с претензией на аристократическую легкость отвесил довольно неуклюжий поклон и удалился так быстро, как только это позволяли ему его старые ноги.
При этом он с претензией на аристократическую легкость отвесил довольно неуклюжий поклон и удалился так быстро, как только это позволяли ему его старые ноги.
Как я уже сказал, у меня пропала всякая охота идти снова на праздник. Поэтому я, повернув к Леопольдштадту, отправился домой, но вскоре, обессилев от жары и пыли, вошел в один из многочисленных садовых ресторанов, переполненных в обычные дни и лишь сегодня уступивших всех своих посетителей Бригиттенау. Тишина, царившая здесь, вдали от шумной толпы, освежила меня, и я предался размышлениям, в которых старый музыкант занимал не последнее место. Была уже почти ночь, когда я наконец решил идти домой, положил деньги на стол и зашагал к городу.
Старик сказал, что он живет в Гертнергассе.
— Где тут поблизости Гертнергассе? — спросил я мальчика, бежавшего по дороге.
— Вон там, сударь! — ответил он, показывая на переулок, который, удаляясь от кварталов предместья, выходил прямо в поле.
Я пошел в этом направлении. По сторонам на большом расстоянии друг от друга виднелись дома, окруженные большими садами и огородами, чем, очевидно, и объяснялось название переулка и занятие его жителей[2]. В какой из этих жалких лачуг может обитать мой оригинал?
Номер дома я благополучно забыл, к тому же в темноте не было никакой надежды разглядеть надпись. В этот момент мимо меня прошел мужчина, тяжело нагруженный овощами.
— Опять старик запиликал,— проворчал он.— Спать не дает честным людям.
И не успел я сделать и двух шагов, как мой слух уловил тихий, протяжный звук скрипки, который доносился, видимо, из открытого слухового окна ветхого одноэтажного домика, стоявшего в отдалении и отличавшегося от других домов именно этим слуховым окном. Я остановился. Едва слышный, но все же вполне ясный звук усиливался, слабел, замирал снова и тотчас же нарастал опять, словно беспрестанно повторяя его; музыкант находил в этом своеобразное наслаждение. Наконец наступила пауза. То была кварта. Если до этого скрипач упивался звучанием отдельных тонов, то теперь с еще большей очевидностью он сладострастно вкушал гармоническое сочетание аккордов. Звуки возникали то от неожиданного щипка, то от мерного поглаживания струн, они переплетались с промежуточными аккордами, отмечали терцию и повторялись снова. К этому присоединилась квинта, дрожащий звук, долгий, как тихое рыдание; он замер, затем повторился с головокружительной стремительностью, и снова зазвучали те же самые аккорды, те же самые тона. И это старик называл импровизацией! Впрочем, в основе своей это, конечно, и была импровизация,— только для исполнителя, но не для слушателя.
Я не знаю, сколько бы это еще продолжалось и к чему бы привело, как вдруг дверь распахнулась и из дома вышел мужчина в нижней рубашке и наспех застегнутых панталонах; дойдя до середины улицы, он крикнул, задрав голову и обращаясь к слуховому окну:
— Будет сегодня конец этому или нет?
Голос его звучал сердито, но не злобно и не оскорбительно. Скрипка умолкла раньше, чем мужчина договорил до конца. Тогда он снова вернулся в дом, слуховое окошко закрылось, и вскоре вокруг меня воцарилась мертвая, ничем не нарушаемая тишина. С трудом пробираясь по незнакомым мне переулкам, я побрел домой. Дорогой я тоже импровизировал, но только в мыслях, так что, пожалуй, никому не мешал.
Утренние часы всегда имели для меня особую ценность. Мне кажется, я испытываю потребность заниматься чем-либо возвышенным и значительным в начале дня, чтобы тем самым как бы освятить остаток его. Поэтому я с большим трудом решаюсь покидать свою комнату ранним утром, и если когда-либо я все же бываю вынужден это сделать без достаточных оснований, то после этого в течение всего дня мне остается только либо предаваться бездумным развлечениям, либо терзаться от тоски. Случилось так, что я на несколько дней отложил визит, который, как мы условились со стариком, должен был состояться именно в утренние часы. Но в конце концов меня все же одолело нетерпение, и я отправился в путь. Гертнергассе был найден мною без труда, дом также. Звуки скрипки слышались и на этот раз, но через закрытое окно их едва можно было различить. Я вошел в дом. Какая-то от удивления едва не потерявшая дара речи садовница указала мне на лестницу, ведущую наверх. Я остановился перед низенькой полузакрытой дверью, постучал,— ответа не было; тогда я нажал на щеколду, переступил порог и очутился в довольно просторной, но жалкой комнате, стены которой точно повторяли очертания островерхой крыши. У самой двери стояла грязная, отвратительно измятая постель, круженная всеми атрибутами беспорядка; напротив меня, около узкого окна, — другая, бедная, но достаточно чистая и тщательно застеленная и накрытая; у окна — маленький столик с нотной бумагой и письменными принадлежностями, на подоконнике — несколько цветочных горшков. Пол посередине комнаты от стены до стены был прочерчен жирной меловой чертой, и трудно было себе представить более резкий контраст чистоты и грязи, чем царивший здесь, по обеим сторонам проведенной линии, являющейся как бы экватором этого маленького мира.
У самой линии перед своим пюпитром стоял старик, опрятно и тщательно одетый, и упражнялся на скрипке. О диссонансах и какофонии в игре моего любимца,— да и я почти боюсь, что только моего,— уже говорилось так много, что я хочу избавить читателей от описания этого адского концерн та. Так как его упражнения состояли почти из одних пассажей, то нечего было и думать о том, чтобы узнать исполняемую вещь, что, впрочем, было бы нелегко сделать, даже если бы он сыграл ее целиком. Прислушиваясь некоторое время, я смог наконец обнаружить в этом лабиринте некую нить и лаже известную методичность безумия. Старик наслаждался своей игрой. В музыке он различал лишь две вещи — консонансы и диссонансы, из которых первые радовали его и даже восхищали, в то время как последних, даже гармонично построенных, он по возможности избегал. Вместо того чтобы, играя, расставлять ударения соответственно смыслу и ритму, он подчеркивал и удлинял благозвучные ноты и интервалы, останавливаясь даже перед тем, чтобы произвольно повторять их, причем лицо его часто принимало прямо-таки исступленное выражение. А так как в то же время он старался все диссонансы проигрывать возможно быстрее, а слишком трудные для него пассажи, из которых он добросовестно не выбрасывал ни одной ноты, по сравнению с остальными играл слишком медленно, то и создавалось впечатление полнейшего музыкального хаоса. Вскоре даже я был сыт его игрой по горло. Безуспешно перепробовав много различных способов вывести его из состояния экзальтации, я наконец уронил нарочно шляпу. Старик чуть не подскочил на месте, колени его задрожали, и он едва не выронил из рук скрипку. Я подошел к нему.
– А, это вы, милостивый государь! — сказал он, тотчас приходя в себя.— Я не рассчитывал на то, что вы исполните ваше великодушное обещание.
Он усадил меня, отложил скрипку, прибрал в комнате, немного растерянно осмотрелся по сторонам, затем вдруг схватил тарелку, стоявшую на столике у двери, и вышел из комнаты. Я услышал, как он о чем-то говорил с садовницей. Вскоре он вернулся, смущенно держа тарелку за спиной, и затем тихонько поставил ее на прежнее место. Видимо, он попросил немного фруктов, желая угостить меня, но получил отказ.
— У вас здесь очень мило,— сказал я, чтобы положить конец его смущению.
— Я стараюсь поддерживать чистоту и гоню беспорядок за дверь, если, конечно, он уже не переступил через порог. Мое жилище доходит только до этой линии,— сказал старик, показывая на меловую черту посреди комнаты.— Там, на той стороне, живут два подмастерья.
— И они относятся с уважением к этой границе?
— Они — нет, но я да,—сказал он.—Только двери общие.
— И вам не мешает их соседство?
— Почти нет,— сказал он.— Правда, они приходят домой поздно ночью, будят меня, но зато с тем большим удовольствием я потом засыпаю снова. А утром я их бужу, когда прибираю свою комнату. Ну, они поругаются, конечно, немного и уйдут.
Тем временем я разглядывал его. Он был чрезвычайно опрятно одет и довольно хорошо сложен для своего возраста, только ноги были немного коротки. Руки его отличались удивительным изяществом.
— Вы смотрите на меня,— сказал он,— и все о чем-то думаете?
— Я жажду услышать вашу историю,— ответил я.
— Историю? — повторил он.— У меня нет никакой истории. Сегодня — как вчера, и завтра — как сегодня. И, наверное, послезавтра то же, и что будет потом — кто знает? Только бог, он и позаботится обо всем.
— Ваша теперешняя жизнь, верно, довольно однообразна,— продолжал я.— Но прежняя ваша судьба... Как случилось...
— Что я стал музыкантом? — вставил он в паузу, которую я невольно сделал.
Тогда я рассказал о том, как обратил на него внимание с первого же взгляда и какое впечатление он произвел на меня своей латынью.
– Латынью,— повторил он.— Латынью? Ее я, конечно, тоже изучал когда-то или даже более того — мог и должен был изучать. Loqueris latine? [3] — обратился он ко мне.— Но я не мог продолжать этих занятий. Это было уже так давно. Итак, вы называете это моей историей? Как это случилось?
Да это случилось, разумеется, по разным причинам,— ничего особенного, но все же по разным. Мне самому хочется рассказать об этом еще раз, хотя бы для себя. Не забыл ли я чего-нибудь... Сейчас еще рано,— продолжал он, сунув руку в карман для часов, где, разумеется, никаких часов не оказалось. Я достал свои, было около девяти часов.
— Время у нас есть, и к тому же я не прочь поболтать,— сказал старик.
За последние минуты он стал явно непринужденнее. Спина его выпрямилась. Без всяких церемоний он взял у меня из рук шляпу и положил ее на кровать, закинул ногу за ногу и вообще принял удобную позу рассказчика.
— Несомненно,— начал он,— вы слышали о надворном советнике...— Он назвал имя крупного государственного деятеля, который в середине прошлого века, занимая скромную должность правителя канцелярии, пользовался огромным влиянием, почти равным влиянию министра. Я подтвердил, что слышал об этом человеке.
— Это был мой отец,— продолжал он.
Отец? Отец этого старого музыканта? Нищего? Влиятельнейший и всемогущий человек — его отец? Старик, казалось, не заметил моего удивления и, видимо, вполне удовлетворенный, продолжал свое повествование.
– Я был средним из трех братьев; оба мои брата сильно продвинулись на государственной службе, но теперь уже умерли; только я один остался в живых,— сказал он и, опустив глаза, смахнул несколько пушинок со своих потертых брюк.— Отец мой был тщеславен и вспыльчив. Мои братья вполне удовлетворяли его. Меня же называли тугодумом, и думал я действительно медленно. Как помню,— продолжал он, подперев голову левой рукой и словно всматриваясь вдаль,— разумеется, если я не ошибаюсь, как помню, я бы мог, конечно, выучить все, если бы только мне дали время и внесли в учение известный порядок. Мои братья прыгали, как серны, от одного предмета к другому, схватывая лишь верхушки предметов, а я вообще не умел оставлять что-либо недоделанным, и если забывал хоть одно слово, то должен был опять начинать все сначала. И это всегда угнетало, меня. Новое устремлялось на то место, которое было еще занято старым, я начинал упрямиться и замолкал вовсе. Так я возненавидел музыку, которая теперь является моей радостью и в то же время опорой моей жизни. Когда по вечерам в полумраке я брал скрипку, чтобы по привычке насладиться импровизацией, у меня отнимали инструмент и говорили, что это портит апликатуру, жаловались на то, что моя игра якобы терзает уши окружающим, и отправляли меня на урок, где терзание начиналось уже для меня. Никогда и ничто в жизни не было мне так ненавистно, как скрипка в то время. Отец мой, крайне недовольный, часто бранил меня и грозился отдать в ремесленники. Я не смел сказать, какое это было бы для меня счастье. Я охотно стал бы токарем или наборщиком. Но он сам не допустил бы этого из гордости. Наконец в школе наступил официальный выпускной экзамен, на котором уговорили присутствовать моего отца, чтобы умилостивить его. Бесчестный учитель заранее предупредил меня о том, что он будет спрашивать, и все шло великолепно. Но вдруг я забыл одно слово — это было, когда я читал стихи Горация. Учитель, покачав головой и улыбнувшись моему отцу, пришел мне на помощь и шепотом подсказал мне. Я же, вспоминая это слово сам, не слышал его. Он повторил его много раз. Напрасно. В конце концов мой отец потерял терпение. «Cachinnum!» (Смех, хохот (лат.)) (таково было это слово) — громко прокричал он мне. Все было кончено. Узнав одно слово, я забыл все остальные. Все старания направить меня по правильному пути не привели ни к чему. Я был вынужден с позором встать. Когда же я по привычке подошел к отцу, чтобы поцеловать ему руку, он оттолкнул меня, поднялся, слегка поклонился всем присутствующим и ушел. «Се queux» (Негодяй, нищий, бездельник (франц.)),— ругал он меня; но тогда я им не был, я стал им только теперь. Слова родителей — это пророчества. В остальном отец был хороший человек. Только вспыльчивый и тщеславный.
С этого дня он не сказал мне больше ни слова. Его распоряжения передавались мне домашними. Так мне сразу же ка другой день объявили, что мои занятия закончены,— я очень испугался, ибо знал, как это должно было огорчить моего отца. Целый день я ничего не делал, только плакал и в промежутках без запинки повторял те латинские строфы, отвечая которые я застрял на экзаменах, а также все предыдущие и последующие. Я обещал восполнить прилежанием отсутствие таланта, если только мне разрешат заниматься и дальше. Но мой отец никогда не отменял раз принятых решений.
Некоторое время я оставался в отчем доме без всякого дела. Наконец в виде опыта меня определили в одну контору. Однако арифметика никогда не была моей сильной стороной. Предложение поступить на военную службу я отверг с отвращением. Даже теперь я не могу смотреть на мундир без внутреннего содрогания. То, что близких тебе людей защищают с опасностью для жизни,— это, разумеется, хорошо и понятно. Но пролитие крови и нанесение увечий как профессия, как ремесло: нет! нет! нет! — И он стиснул себе плечи обеими руками, словно чувствуя боль своих и чужих ран.— Так я очутился в канцелярии среди копиистов. Здесь я был действительно на своем месте. Писал я всегда с удовольствием и до сих пор не знаю более приятного развлечения, чем выводить хорошими чернилами на хорошей бумаге слова или даже просто буквы. А особенно — музыкальные ноты. Они необычайно красивы. Но тогда я еще совсем не думал о музыке.

 Я был прилежен, но слишком боязлив. Неправильный знак препинания, пропущенное в черновике слово, даже если о нем можно было догадаться по смыслу, доставляли мне горькие минуты. Вечно меня мучили страх и сомнения: придерживаться ли мне точно оригинала, или переписывать по-своему. Я прослыл нерадивым, хотя надрывался на службе, как никто. Так провел я несколько лет, не получая даже жалованья, ибо, когда при производстве в чин, очередь дошла до меня, отец мой на совете отдал свой голос другому, а остальные из почтения к нему поддержали его.
Я был прилежен, но слишком боязлив. Неправильный знак препинания, пропущенное в черновике слово, даже если о нем можно было догадаться по смыслу, доставляли мне горькие минуты. Вечно меня мучили страх и сомнения: придерживаться ли мне точно оригинала, или переписывать по-своему. Я прослыл нерадивым, хотя надрывался на службе, как никто. Так провел я несколько лет, не получая даже жалованья, ибо, когда при производстве в чин, очередь дошла до меня, отец мой на совете отдал свой голос другому, а остальные из почтения к нему поддержали его.
— В это время... нет, вы подумайте только,— прервал он себя,— и правда получается нечто вроде истории! В это время произошло два события,— одно — самое печальное, другое — самое радостное в моей жизни. А именно — удаление из отчего дома и возвращение к моей милой музыке, к моей скрипке, которая осталась мне верна до сих пор.
Я жил в доме моего отца в задней комнатке, которая выходила окнами на соседний двор. Домашние не обращали на меня никакого внимания. Сначала я ел в семье за общим столом, где никто ни разу не заговорил со мной. Когда же мои братья получили новое назначение и уехали из дома, а отец стал почти каждый день уходить в гости,— матери давно уже не было в живых,— было решено, что неразумно держать стол только ради меня. Прислуга получала деньги на пропитание, я — тоже, хотя их давали мне не на руки, а ежемесячно уплачивали за меня в ресторан. Поэтому я мало бывал в своей комнате, разве только по вечерам. Мой отец потребовал, чтобы я по крайней мере полчаса после закрытия канцелярии оставался дома. Вот я и сидел там один в сумерках, без света, ибо глаза мои уже в то время были слабы. Я думал о том, о другом, и на душе у меня было ни радостно, ни печально.
Однажды, сидя так, я услышал, как на соседнем дворе поют песню. Вернее, пели много песен, среди которых одна особенно понравилась мне. Она была так проста, так трогательна и выразительна, что слов не нужно было слышать вовсе. Я вообще думаю, что слова только портят музыку. — Он открыл рот и выдавил из себя несколько хриплых звуков.— У меня от природы нет голоса,— сказал он и взял скрипку.
Он заиграл, и на этот раз с правильным выражением, мелодию приятной, но в остальном ничем не примечательной песни, причем пальцы его задрожали на струнах, а по лицу вдруг потекли слезы.
— Вот эта песня,— сказал он, откладывая скрипку в сторону.— Я слушал ее со все большим удовольствием. Но как бы жива она ни была у меня в памяти, мне никогда не удавалось правильно спеть ни одного звука. Я с нетерпением жаждал услышать ее снова. И вдруг на глаза мне попалась моя скрипка, висевшая на стене с самой моей юности, как старая и никому не нужная вещь. Я схватил ее — она была испорчена: возможно, кто-либо из прислуги пользовался ею в мое отсутствие. Лишь только я притронулся смычком к струнам, сударь, мне показалось, что всевышний осенил меня своей десницей. Звуки проникали мне в самую душу и вновь вырывались оттуда. Воздух вокруг меня был словно напоен хмелем. О, эта песня внизу во дворе и звуки моей скрипки, друзья моего одиночества! Я упал на колени, начал громко молиться и не мог понять, почему я раньше так мало ценил этот божественный инструмент, я целовал скрипку, прижимал ее к груди и играл, играл без конца.
Песня во дворе — ее пела женщина — звучала без умолку. Но повторить ее оказалось не так легко.
У меня не было нот этой песни. К тому же я тогда заметил: немногое, что я умел когда-то играть на скрипке, теперь было мною уже забыто. Поэтому я не умел сыграть ничего определенного, а просто играл, вот и все. Несмотря на это, мне совершенно безразлично, что играть, за исключением той песни; так же безразлично мне это и сейчас. Они играют Вольфганга Амадея Моцарта и Себастиана Баха, но господа бога не играет никто. Кто умеет передать эту вечную благость дарованных им звуков и тонов, их чудотворную согласованность со страстно алчущим слухом так, чтобы,— продолжал он, краснея от смущения,— чтобы третий звук совпадал с первым, а пятый с третьим, и чтобы nota sensibilisвзмывала как исполненная надежда, а диссонанс склонялся перед ней подобно злому умыслу или дерзкому высокомерию, чтобы происходило чудо слияния и отталкивания, благодаря которому секунда превращается в частицу гармонии. Обо всем этом, хотя и много позже, мне рассказал один музыкант. И о том, чего я так и не смог понять,— о fuga и punctum contra punctum и о canon a duo, a tre и так далее,— о целом небесном здании, воздвигнутом без всякого цемента и поддерживаемом божественной рукой. А об этом обычно никто, кроме немногих, ничего не хочет слышать. Более того, люди препятствуют этому чистому дыханию души, добавляя к нему слова о том, как дети бога соединяются с дочерьми земли и к чему это приводит. Сударь,— сказал он в заключение, почти обессилев,— речь нужна людям, как пища, но должно сохранять в чистоте и напиток, ибо он — от господа бога.
Мой старик так оживился, что я едва узнавал его. Секунду он помолчал.
 — Так на чем я остановился в своей истории? — сказал он наконец. — Ах, да, на песне и на моих попытках сыграть ее. Но это не удавалось. Я подошел к самому окну, чтобы лучше слышать. В этот момент певица прошла по двору. Я увидел ее только со спины, и все же она показалась мне знакомой. Она несла корзину с еще не испеченными, как мне показалось, пирожками. Продолжая петь, она открыла калитку в углу двора, где, должно быть, находилась хлебная печь, и я услышал стук деревянной утвари, причем голос ее то затихал, то снова звучал ясно, как голос человека, который то наклоняется и поет в какую-то пустоту, то снова выпрямляется. Через несколько минут она вернулась, и только теперь я понял, почему она показалась мне знакомой. Я действительно знал ее уже давно. И между прочим — по канцелярии.
— Так на чем я остановился в своей истории? — сказал он наконец. — Ах, да, на песне и на моих попытках сыграть ее. Но это не удавалось. Я подошел к самому окну, чтобы лучше слышать. В этот момент певица прошла по двору. Я увидел ее только со спины, и все же она показалась мне знакомой. Она несла корзину с еще не испеченными, как мне показалось, пирожками. Продолжая петь, она открыла калитку в углу двора, где, должно быть, находилась хлебная печь, и я услышал стук деревянной утвари, причем голос ее то затихал, то снова звучал ясно, как голос человека, который то наклоняется и поет в какую-то пустоту, то снова выпрямляется. Через несколько минут она вернулась, и только теперь я понял, почему она показалась мне знакомой. Я действительно знал ее уже давно. И между прочим — по канцелярии.
Дело было так. Присутственные часы начинались рано и тянулись почти до вечера. Многие из более молодых чиновников, которые или действительно проголодались, или же просто хотели с полчаса отдохнуть, обычно около одиннадцати часов покупали себе что-нибудь поесть. Торговцы, умеющие из всего извлечь выгоду, избавляли этих лакомок от лишней ходьбы, принося свои товары прямо в служебное помещение и расставляя их на лестнице и в коридоре. Пекарь продавал маленькие сдобы, садовница — вишни. Но особенным успехом пользовались пирожки, которые дочь некоего Гризлера, живущего по соседству, пекла сама и приносила продавать еще горячими. Покупатели обступали ее в коридоре, и лишь изредка она приходила на зов в комнату, где мрачноватый правитель канцелярии, едва заметив ее, почти всегда указывал ей на дверь,— приказание, которому она подчинялась с неудовольствием и ворчанием.
Среди моих товарищей девушка не слыла красивой. Они считали ее слишком маленькой и не могли определить цвета ее волос. Некоторые сомневались в том, что у нее кошачьи глаза, но наличие оспин на лице признавали все. С одобрением отзывались лишь о ее плотной фигурке, но говорили, что девушка груба, и один из чиновников рассказывал даже о том, как она однажды ударила его и эту пощечину он ощущал еще целую неделю.
Я сам не принадлежал к числу ее покупателей, отчасти потому, что у меня не было денег, отчасти из-за того, что считал еду и питье всегда — иногда даже слишком — необходимостью, а искать в них радости и удовольствия мне не приходило в голову. Поэтому мы никогда и не замечали друг друга. Лишь один раз, чтобы подразнить меня, мои товарищи уверили ее, будто я хочу купить у нее пирожков. Она подошла к моему столу и протянула мне корзину. «Мне ничего не надо, милая девушка»,— сказал я. «Тогда чего же вы напрасно беспокоите людей?» — воскликнула она сердито. Я попросил извинения и, тотчас же догадавшись, что это шутки товарищей, объяснил ей все как нельзя лучше. «Ну тогда подарите мне хоть лист бумаги, завернуть мои пирожки»,— сказала она. Я объяснил ей, что это бумага казенная, а не моя; что дома у меня, правда, есть своя бумага, и я могу принести ей. «Дома у меня тоже есть сколько хотите»,— сказала она насмешливо и ушла.
 Все это произошло лишь несколько дней тому назад, и теперь я намеревался извлечь из этого знакомства для себя выгоду. Поэтому на следующее утро я засунул под сюртук целую гору бумаги, в которой у нас дома недостатка никогда не было, и пошел в канцелярию, где я, дабы не выдать себя, с величайшим неудобством сохранял свою броню на теле до тех пор, пока около полудня по суете своих товарищей и по звуку жующих челюстей не заметил, что торговка пирожками уже появилась, а основной поток покупателей уже схлынул. Тогда я вышел, достал свою бумагу, собрался с духом и направился к девушке. Поставив перед собой корзинку на пол, а правую ногу на табурет, на котором она обычно сидела, девушка стояла, тихо напевая и отбивая такт ногой о табурет. Когда я подошел ближе, она смерила меня взглядом с головы до ног, что еще больше увеличило мое смущение. «Милая девушка,— начал я наконец,— вы недавно просили у меня бумаги, но у меня тогда не было своей. Вот я принес немного из дома и...» — с этими словами я протянул ей свою бумагу.
Все это произошло лишь несколько дней тому назад, и теперь я намеревался извлечь из этого знакомства для себя выгоду. Поэтому на следующее утро я засунул под сюртук целую гору бумаги, в которой у нас дома недостатка никогда не было, и пошел в канцелярию, где я, дабы не выдать себя, с величайшим неудобством сохранял свою броню на теле до тех пор, пока около полудня по суете своих товарищей и по звуку жующих челюстей не заметил, что торговка пирожками уже появилась, а основной поток покупателей уже схлынул. Тогда я вышел, достал свою бумагу, собрался с духом и направился к девушке. Поставив перед собой корзинку на пол, а правую ногу на табурет, на котором она обычно сидела, девушка стояла, тихо напевая и отбивая такт ногой о табурет. Когда я подошел ближе, она смерила меня взглядом с головы до ног, что еще больше увеличило мое смущение. «Милая девушка,— начал я наконец,— вы недавно просили у меня бумаги, но у меня тогда не было своей. Вот я принес немного из дома и...» — с этими словами я протянул ей свою бумагу.
«Я же вам тогда еще сказала, что дома у меня и своей бумаги достаточно,— ответила она.— Впрочем, все равно может потребоваться».
С этими словами она слегка кивнула мне головой, взяла мой подарок и положила его в корзинку.
«А пирожков вы не хотите? — сказала она, роясь в своем товаре.— Правда, лучшие уже разобрали».
Я поблагодарил ее и сказал, что у меня к ней иная просьба.
«Ну, разве только?» — сказала она, берясь за ручку корзинки и взглянув на меня своими живыми глазами. Я начал говорить о том, что очень люблю музыку, хотя и с недавних пор, и что я слышал, как она поет прекрасные песни, особенно одну.
«Вы? Меня? Песни? — воскликнула она.— Где же?»
Тогда я рассказал ей, что живу недалеко от нее и наблюдаю за нею, когда она работает во дворе. Одна из ее песен понравилась мне особенно, настолько, что я уже пытался на скрипке сыграть ее.
«Значит, вы тот,— воскликнула она,— что так пиликает на скрипке?»
В то время, как я уже сказал, я был всего лишь новичок и только позже с большим трудом развил в этих пальцах необходимую беглость,— прервал себя старик, перебирая пальцами левой руки воздух, словно он играл на скрипке.
— Мне вся кровь бросилась в голову,— продолжал он свой рассказ,— и я увидел, что она уже раскаялась в грубости сказанных ею слов.
«Дорогая девушка,— сказал я,— пиликанье получается от того, что у меня нет нот этой песни, поэтому я и хотел покорнейше просить вас написать их мне».
«Написать? — сказала она.— Эта песня напечатана и продается на всех перекрестках».
«Песня? — возразил я.— Это же только слова».— «Ну да, слова, песня».— «А мелодия, на которую ее поют?» — «А разве ее тоже записывают?» — спросила она. «Ну, конечно! — был мой ответ,— это же самое главное. А как же вы разучили ее, милая девушка?» — «Я слышала, как ее пели, вот и стала петь так же». Я поразился этому врожденному дарованию,— ведь вообще необразованные люди часто имеют множество талантов. Но тем не менее это не истинное, не настоящее искусство. Я снова впал в отчаяние. «Ну, а все-таки какая же это песня? — спросила она.— Я знаю их так много».— «И все без нот?» — «Ну конечно. Скажите, какая же это?» — «Это самая красивая,— признался я.— В самом начале она поется на высоких нотах, затем словно возвращается в глубину души и тихо-тихо замирает. Вы поете ее чаще других». — «Ах, наверное, эта!» — сказала она, снова опустила корзинку, поставила ногу на табурет и запела тихо, но звонко, причем она так красиво, так мило наклонила голову, что, прежде чем она закончила, я схватил ее опущенную руку. «Ого!» — сказала она, отнимая руку, ибо она, верно, думала, что я намеревался позволить себе какую-нибудь вольность. Но нет, я хотел лишь поцеловать ей руку, хотя она и была просто бедная девушка. Что же, я и сам теперь тоже человек бедный.
И когда я, придя в отчаяние от того, что не мог добыть эту песню, схватился за голову, она успокоила меня и сказала, что органист церкви святого Петра частенько заходит в лавочку ее отца за мускатным орехом; она попросит его положить эту песню на ноты, и через несколько дней я смогу ее получить. После этого она взяла свою корзинку и ушла,— я проводил ее до лестницы. Когда я на прощанье кланялся ей с верхней ступеньки, меня увидел правитель канцелярии, он велел мне идти работать и выбранил девушку, в которой, по его утверждению, не было ничего хорошего. Я страшно возмутился и хотел ему ответить, что я, с его разрешения, убежден в противном, но вдруг заметил, что он уже вернулся в свой кабинет. Тогда я сдержался и тоже пошел к своему стелу. И все же с этого времени он был убежден, что я нерадивый чиновник и беспутный человек.
И действительно, в этот и последующие дни я едва ли мог что-либо сделать разумное,— песня не выходила у меня из головы, и я был словно потерянный. Прошло несколько дней, но я не знал, пора мне идти за нотами или нет. По словам девушки, органист приходил в лавочку ее отца за мускатным орехом. Мускатный орех мог быть ему нужен только к пиву. Но уже некоторое время стояла холодная погода; поэтому можно было предположить, что почтенный музыкант употребляет, пожалуй, вино и мускатный орех ему скоро не потребуется. Явиться за нотами слишком быстро казалось мне невежливой назойливостью, слишком же долгое ожидание с моей стороны могло быть расценено как равнодушие. Заговорить с девушкой в коридоре я не решался, ибо наша первая встреча была замечена моими товарищами, и они сгорали от желания разыграть меня.
Тем временем я снова усердно занялся скрипкой и прежде всего основательно изучил основы игры, лишь изредка позволяя себе импровизировать,— при этом я тщательно закрывал окно, зная, что мое исполнение никому не нравится. Но даже когда окно было открыто, я не слышал больше своей песни. Соседка или не пела вовсе, или же пела так тихо и за закрытой дверью, что я не мог расслышать ни звука.
Наконец — прошло уже около трех недель — я не выдержал. Впрочем, уже в, течение двух вечеров я прокрадывался в переулок,— без шляпы, чтобы чиновники думали, будто я всего лишь что-то ищу в доме; но как только я приближался к лавочке Гризлера, меня бросало в дрожь и я волей-неволей вынужден был возвращаться. Но наконец я, как уже было сказано, не выдержал. Я собрался с духом и однажды вечером вышел из своей комнаты, — на этот раз тоже без шляпы, — спустился вниз по лестнице и уверенной походкой направился по переулку к погребку Гризлера. Там я остановился и задумался над тем, что делать дальше.
 В лавке было светло, и оттуда доносились голоса. После некоторого колебания я наклонился и заглянул внутрь. Я увидел мою знакомую, сидящую прямо перед прилавком и перебирающую бобы и горох в деревянном корыте. Перед ней стоял здоровый, крепкий мужчина в куртке, наброшенной на плечи; в руках он держал нечто вроде дубины, словно боец скота. Они разговаривали и, как видно, оба были в хорошем настроении. Несколько раз девушка громко смеялась, не отрываясь от работы и даже не поднимая глаз. То ли от напряженной, склоненной позы, то ли еще от чего, но я снова начал дрожать, как вдруг чья-то сильная рука схватила меня сзади за шиворот и толкнула вперед. В мгновение ока я оказался в погребке, а когда меня отпустили и я огляделся по сторонам, то увидел, что это был сам владелец лавки,— возвращаясь домой, он застал меня за подсматриванием и посчитал это весьма подозрительным. «Черт возьми! — закричал он. — Теперь понятно, куда деваются сливы и пригоршни гороха и ячменя, которые пропадают в сумерки из корзин. Разрази тебя гром и молнии!» С этими словами он ринулся на меня, словно сам хотел меня «разразить».
В лавке было светло, и оттуда доносились голоса. После некоторого колебания я наклонился и заглянул внутрь. Я увидел мою знакомую, сидящую прямо перед прилавком и перебирающую бобы и горох в деревянном корыте. Перед ней стоял здоровый, крепкий мужчина в куртке, наброшенной на плечи; в руках он держал нечто вроде дубины, словно боец скота. Они разговаривали и, как видно, оба были в хорошем настроении. Несколько раз девушка громко смеялась, не отрываясь от работы и даже не поднимая глаз. То ли от напряженной, склоненной позы, то ли еще от чего, но я снова начал дрожать, как вдруг чья-то сильная рука схватила меня сзади за шиворот и толкнула вперед. В мгновение ока я оказался в погребке, а когда меня отпустили и я огляделся по сторонам, то увидел, что это был сам владелец лавки,— возвращаясь домой, он застал меня за подсматриванием и посчитал это весьма подозрительным. «Черт возьми! — закричал он. — Теперь понятно, куда деваются сливы и пригоршни гороха и ячменя, которые пропадают в сумерки из корзин. Разрази тебя гром и молнии!» С этими словами он ринулся на меня, словно сам хотел меня «разразить».
 Я почувствовал себя совершенно уничтоженным, но мысль о том, что кто-то сомневается в моей честности, быстро вернула мне самообладание. Я слегка поклонился и сказал этому невеже, что явился с визитом не к его сливам и ячменю, а к его дочери. Тогда стоявший посреди мясник громко рассмеялся и направился к выходу, прошептав перед этим несколько слов на ухо девушке, на которые она, также громко смеясь, ответила тем, что с размаху шлепнула его ладонью по спине.
Я почувствовал себя совершенно уничтоженным, но мысль о том, что кто-то сомневается в моей честности, быстро вернула мне самообладание. Я слегка поклонился и сказал этому невеже, что явился с визитом не к его сливам и ячменю, а к его дочери. Тогда стоявший посреди мясник громко рассмеялся и направился к выходу, прошептав перед этим несколько слов на ухо девушке, на которые она, также громко смеясь, ответила тем, что с размаху шлепнула его ладонью по спине.
Гризлер пошел проводить мясника. Тем временем я снова потерял все свое мужество и молча стоял перед девушкой, равнодушно перебиравшей свои бобы и горох, словно все происходившее не имело к ней ни малейшего отношения. Вдруг в дверь снова с шумом ввалился ее отец. «Тысячу раз черт побери,— сказал он.— Что вам нужно от моей дочери?» Я попытался объяснить ему обстоятельства и причину моего визита. «Что? Песня? — сказал он.— Я вам сейчас спою песню!» — и при этом он внушительно опустил и снова поднял правую руку. «Вот она лежит»,— сказала девушка, не оставляя своего корыта со стручками, отклонилась вместе с креслом в сторону и указала рукой на прилавок. Я бросился туда и увидел там лист нотной бумаги. Это была песня. Но старик опередил меня. Он схватил чудесный лист и смял его. «Я спрашиваю,— сказал он,— что это такое? Кто этот человек?» — «Этот господин служит в канцелярии»,— отвечала она, отбрасывая червивую горошину несколько дальше, чем обычно. «В канцелярии? — закричал он.— В темноте, без шляпы?» Я объяснил отсутствие шляпы тем, что живу совсем рядом и описал свой дом. «Знаю я этот дом! — кричал он.— Там никто не живет, кроме советника X.— И он назвал имя моего отца.— А прислугу я тоже всю знаю».— «Я сын советника»,— сказал я тихо, словно это была неправда.
Много я видал в жизни перемен, но еще никогда не видел перемены столь внезапной, которая при этих словах произошла во всем облике этого человека. Рот, раскрытый для брани, так и остался открытым, глаза все еще сверкали, но на нижней части лица уже заиграло некоторое подобие улыбки, которая ширилась все больше и больше. Девушка, равнодушно оставаясь в прежней согнутой позе и продолжая работать, лишь откинула за уши растрепавшиеся волосы.
«Сын господина надворного советника? — воскликнул наконец старик, на лице которого наступило полное просветление.— Может быть, ваша милость изволит присесть? Барбара, подай стул!» Девушка нехотя привстала с места. «Ну, подожди же ты, тихоня!» — сказал он, собственноручно снимая одну из корзин и смахнув платком пыль с кресла, на котором эта корзинка стояла.— Какая высокая честь! — продолжал он.— Господин советник, то есть господин сын советника, значит тоже занимается музыкой? Вы, может быть, поете, как и моя дочка, или еще лучше — даже по нотам, по всем правилам искусства?» Я объяснил ему, что у меня от природы нет голоса. «Или играете на фортепьянах, как это принято у людей знатных?» Я заметил, что играю на скрипке. «В юности я тоже пиликал на скрипке!» — воскликнул он. При слове «пиликать» я невольно взглянул на девушку и увидел на ее лице такую ироническую улыбку, что совсем смутился.
«Быть может, вы хотите заняться с девчонкой, то есть я имею в виду музыкой,— продолжал он.— Голос-то у нее славный, ну и еще есть у нее ряд достоинств, а вот умение, бог ты мой, откуда его взять?» — И он несколько раз прищелкнул большим и указательным пальцем правой руки.
Я устыдился, что мне столь незаслуженно приписывали такие значительные музыкальные познания, и едва лишь хотел разъяснить истинное положение вещей, как проходящий мимо человек крикнул с улицы в лавку: «Добрый вечер всей компании!» Я испугался, ибо это был голос одного из слуг нашего дома. Узнал его и Гризлер. Выдвинув кончик языка и подняв плечи, он прошептал: «Это один из слуг вашего досточтимого папаши. Но он не мог узнать вас, вы же стояли к двери спиной». Последнее было действительно так. Но сознание того, что я делаю нечто такое, что надо скрывать, нечто постыдное, стало для меня невыносимо. Я пробормотал на прощание несколько слов и ушел. Я бы забыл даже песню, если бы старик не догнал меня на улице и не сунул ее мне в руки.
Так я вернулся домой, в свою комнату, и стал ждать дальнейших событий. И они не замедлили наступить. Слуга меня все-таки узнал. Через несколько дней после этого ко мне в комнату явился секретарь моего отца и объявил мне, что я должен покинуть родительский дом. Все мои возражения были тщетны. Мне сняли комнату в отдаленном пригороде, и таким образом я был изгнан из круга родственников. Не мог я больше видеть и свою певицу. Торговать в канцелярии пирожками ей запретили, а решиться прийти в лавку ее отца я не мог, ибо знал, что моим родным это будет неприятно. К тому же, когда я однажды случайно встретил старого Гризлера на улице, он с мрачным видом отвернулся, и это словно громом поразило меня. И я, по полдня проводя в одиночестве, достал опять свою скрипку и начал играть и упражняться на ней.
 Но худшее было еще впереди. Счастье отвернулось от нашего дома. Мой младший брат, своенравный буйный человек, офицер драгунского полка, стоявшего в глубине Венгрии, поплатился жизнью за безрассудное пари, по которому он, разгоряченный верховой ездой, на лошади и во всем обмундировании переплыл Дунай. Старший же брат, любимец семьи, был в это время определен на службу в один из провинциальных магистратов. Вступив там в постоянные распри с местными начальниками и, по их утверждению, втайне поощряемый отцом, он позволил себе даже сообщать неверные данные, чтобы повредить своим противникам. Началось расследование, и моему брату пришлось тайком покинуть это место. Враги нашего отца, которых было немало, воспользовались этим случаем и стали добиваться его отставки. Осаждаемый со всех сторон и тяжело переживающий падение своего влияния, отец ежедневно выступал на заседаниях магистрата с самыми вызывающими речами. Однажды в середине выступления с ним случился удар, и он потерял речь. В таком состоянии его привезли домой. Сам я ничего не знал об этом. Однако на другой день в канцелярии я заметил, что вокруг меня потихоньку шепчутся и на меня показывают пальцами. Но я уже привык к подобному обращению и не сердился ни на кого. В пятницу,— а удар случился в среду,— мне в комнату неожиданно принесли черный костюм с флером. Я удивился, начал расспрашивать и узнал все. Обычно я бываю очень вынослив и крепок, но здесь силы отказали мне. Я потерял сознание и упал на пол. Меня перенесли на кровать, у меня началась лихорадка, и я бредил весь день и всю ночь напролет. На следующее утро мой здоровый организм победил, но отец был мертв и уже похоронен.
Но худшее было еще впереди. Счастье отвернулось от нашего дома. Мой младший брат, своенравный буйный человек, офицер драгунского полка, стоявшего в глубине Венгрии, поплатился жизнью за безрассудное пари, по которому он, разгоряченный верховой ездой, на лошади и во всем обмундировании переплыл Дунай. Старший же брат, любимец семьи, был в это время определен на службу в один из провинциальных магистратов. Вступив там в постоянные распри с местными начальниками и, по их утверждению, втайне поощряемый отцом, он позволил себе даже сообщать неверные данные, чтобы повредить своим противникам. Началось расследование, и моему брату пришлось тайком покинуть это место. Враги нашего отца, которых было немало, воспользовались этим случаем и стали добиваться его отставки. Осаждаемый со всех сторон и тяжело переживающий падение своего влияния, отец ежедневно выступал на заседаниях магистрата с самыми вызывающими речами. Однажды в середине выступления с ним случился удар, и он потерял речь. В таком состоянии его привезли домой. Сам я ничего не знал об этом. Однако на другой день в канцелярии я заметил, что вокруг меня потихоньку шепчутся и на меня показывают пальцами. Но я уже привык к подобному обращению и не сердился ни на кого. В пятницу,— а удар случился в среду,— мне в комнату неожиданно принесли черный костюм с флером. Я удивился, начал расспрашивать и узнал все. Обычно я бываю очень вынослив и крепок, но здесь силы отказали мне. Я потерял сознание и упал на пол. Меня перенесли на кровать, у меня началась лихорадка, и я бредил весь день и всю ночь напролет. На следующее утро мой здоровый организм победил, но отец был мертв и уже похоронен.
Я не мог больше говорить с ним. Не мог просить у него прощения за все то горе, которое причинил ему. Не мог и поблагодарить его за незаслуженные милости,— да, милости, ибо он желал мне добра, и я надеялся однажды снова обрести его расположение, когда бы о нас судили по нашим намерениям, а не по нашим делам.
Много дней я оставался в своей комнате, почти не принимая пищи. Наконец я все-таки вышел из дома и вечером долго блуждал по темным улицам, словно братоубийца Каин. Дом отца представлялся мне страшным призраком, которого я старательно избегал на своем пути. Но однажды, бессмысленно уставившись перед собой, я внезапно очутился вблизи этого дома, которого так боялся. Мои колени дрожали, так что я должен был останавливаться. Схватившись за стену позади себя, я узнал дверь лавки Гризлера; внутри сидела Барбара с письмом на коленях, рядом с ней на прилавке горела свеча, а около нее — стоял отец, который, казалось, говорил с нею. Я не мог не войти туда, даже если бы это мне стоило жизни. Не иметь никого, кому бы я мог пожаловаться на свои страдания, никого, кто бы посочувствовал им! Старик,— это я, конечно, знал,— был на меня зол, но девушка должна была сказать мне доброе слово. Однако случилось все наоборот. Когда я вошел, Барбара встала, окинула меня высокомерным взглядом и ушла в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. А старик схватил меня за руку, усадил меня и начал утешать, сказав даже, что я теперь человек богатый и могу ни о чем больше не заботиться. Он спросил, какое наследство мне досталось. Я этого не знал. Он потребовал, чтобы я пошел к адвокату, и я ему обещал это. В канцелярии, по его мнению, мне теперь делать нечего. Я должен вложить свое наследство в торговлю. Хорошую прибыль дают овощи и фрукты; а компаньон, который в этом знает толк, способен превращать гроши в гульдены. Ему уже приходилось заниматься такими делами. Затем он стал звать девушку, не подававшую никаких признаков жизни. Правда, мне порою казалось, будто дверь поскрипывала. Но так как Барбара все еще не появлялась, а старик говорил только о деньгах, я наконец попрощался и ушел, причем он очень сожалел, что не сможет проводить меня, ибо он в лавке один. Я был опечален своими неоправдавшимися надеждами и тем не менее странным образом утешен. Когда я остановился на улице и стал смотреть на дом своего отца, я внезапно услышал за спиной голос, тихо и сердито произнесший: «Не доверяйте сейчас никому, к вам плохо относятся». Я тотчас же оглянулся, но никого не увидел. Лишь скрип окна в погребке Гризлера дал мне понять, даже если бы я и не узнал голоса, что это Барбара втайне предостерегала меня. Значит, она слышала все то, о чем говорилось в лавке. Хотела ли она предостеречь меня от своего отца? Или же она случайно слышала, что тотчас же после смерти моего отца мои коллеги по канцелярии и другие, вовсе незнакомые мне люди осадили меня просьбами поддержать их и помочь им, и я обещал им это сделать, как только буду располагать деньгами? Я должен был выполнить то, что успел наобещать, но впредь решил быть осторожнее. Я осведомился по поводу своего наследства. Око оказалось меньшим, чем думали, но все-таки достаточно большим, около одиннадцати тысяч гульденов. Мою комнату целыми днями переполняли просители и взывающие о помощи. Я же стал почти непоколебим и давал деньги лишь в тех случаях, когда нужда была особенно велика. Пришел и отец Барбары. Он выбранил меня за то, что я не навещаю их уже три дня. Я ответил, что боюсь быть в тягость его дочери, и это вполне соответствовало действительности. Но он сказал, что это не должно меня огорчать, ибо он уже вправил ей мозги, и рассмеялся так злобно, что мне стало страшно. Поэтому, когда он заговорил о моем  наследстве, я вспомнил о предостережении Барбары и умолчал о сумме. Его предложения о совместной торговле я искусно отклонил.
наследстве, я вспомнил о предостережении Барбары и умолчал о сумме. Его предложения о совместной торговле я искусно отклонил.
И в самом деле, у меня были иные намерения. В канцелярии, где меня терпели лишь ради отца, мое место было уже занято другим, что меня беспокоило очень мало, ибо все равно я не получал там никакого жалованья. Но секретарь моего отца, лишившийся благодаря последним событиям куска хлеба, сообщил мне свой план создания некоей конторы справок, переписки и перевода, расходы по устройству которой он предложил мне взять на себя, в то время как сам он охотно брал на себя обязанности директора. Я настоял на том, чтобы для переписки принимались и ноты, и был совершенно счастлив. Я выдал требуемую сумму, но, став уже осторожным, получил в этом расписку. О значительном залоге для обеспечения предприятия, также выданном мною, беспокоиться было нечего, так как он хранился в суде и там оставался моим в той же степени, как если бы лежал у меня в шкафу.
Дело было сделано, и я чувствовал себя легко, бодро, самостоятельным впервые в жизни,— словом, настоящим мужчиной. Об отце я вспоминал лишь изредка. Я снял более удобную квартиру, сменил кое-что в своем гардеробе и, как только настал вечер, отправился по хорошо знакомым улицам к лавке Гризлера; я шел в развалочку и сквозь зубы напевал свою песню, впрочем несколько фальшивя, ибо никак не мог точно передать одного тона во второй половине ее. Пришел я в хорошем, радостном настроении, но холодный, как лед, взгляд Барбары сразу же воскресил мою прежнюю робость. Старик встретил меня наилучшим образом, она же вела себя так, словно никто не приходил, продолжала закручивать бумажные трубочки и не вмешивалась в наш разговор ни единым словом. Только когда речь зашла о моем наследстве, она привстала и сказала почти угрожающе: «Отец!», после чего старик сразу же переменил тему. Больше она за весь вечер не сказала ничего, ни разу не взглянула на меня, и когда я наконец стал прощаться, ее «Всего хорошего!» звучало почти как «Слава богу!».
Но я приходил снова и снова, и постепенно она начала сдаваться. Не то, чтобы мне уже было за что ее благодарить. Она ругала и бранила меня не переставая. По ее словам, все у меня получалось не так, словно бог дал мне две левые руки. И сюртук мой сидел на мне, как на огородном чучеле. И ходил я, как утка, похожая на петуха. Особенно противным казалось ей мое вежливое обращение с покупателями. А так как до открытия нашего заведения по переписке я не имел в сущности определенных занятий и понимал при этом, что в будущем мне придется иметь дело с клиентурой, то я решил для первоначального обучения принимать деятельное участие в розничной торговле в погребке Гризлера, что нередко занимало у меня по полдня. Я отвешивал пряности, отсчитывал мальчикам орехи, сушеные сливы, выдавал сдачу. Последнее часто не без ошибок, и тогда вмешивалась Барбара, насильно отнимала у меня то, что я держал в руках, и высмеивала меня перед клиентами. Если же я кланялся кому-нибудь из покупателей или прощался с ними, то, прежде чем они доходили до двери, она грубо кричала: «Товар свидетельствует вам свое почтение!» — и поворачивалась ко мне спиной. Но часто она снова становилась самой добротой. Она слушала, когда я рассказывал ей о том, что происходило в городе, о моем детстве, о службе в канцелярии, где мы некогда познакомились. Она слушала меня молча, лишь изредка вставляя отдельные слова одобрения, но чаще всего неодобрения.
О музыке или пении мы с ней не говорили никогда. По ее мнению, нужно было или петь, или помалкивать, а разговаривать здесь не о чем. Но и петь мы тоже не могли. В лавке было неудобно, а в задней комнате, где жили вместе она и ее отец, я не имел права появляться. Лишь однажды, когда я вошел незаметно, она стояла на цыпочках, повернувшись ко мне спиной, и, подняв руки, что-то искала на одной из верхних полок. И при этом она напевала про себя. Это была песня, моя песня! Она щебетала ее, словно птичка, которая промывает горлышко у ручья, запрокидывает головку, чистит перышки и снова приглаживает их своим маленьким клювом. Мне показалось, что я на зеленом лугу. Я подходил все ближе, ближе и наконец очутился уже так близко, что мне показалось, будто песню поет не Барбара, а она звучит где-то у меня внутри, в душе. Я не выдержал и в ту минуту, как она, откинувшись вперед, снова выпрямилась, схватил ее обеими руками за талию. Тогда это и произошло. Она повернулась с быстротой волчка, и я увидел ее красное от гнева лицо. Рука ее поднялась, и прежде чем я успел попросить прощения...
Как я уже говорил, в канцелярии часто рассказывали о пощечине, которую Барбара, будучи еще продавщицей пирожков, дала одному нахалу. То, что рассказывали о силе этой девушки, которую можно было назвать скорее маленькой, и о тяжести ее руки, казалось тогда весьма преувеличенным. Но то была правда, скорее ее преуменьшили. Я стоял как громом пораженный. Свечи плясали перед моими глазами. Это были небесные свечи, подобные солнцу, луне и звездам, подобные ангелам, играющим в прятки и поющим при этом. Она же, испугавшись едва ли не больше меня, погладила,  словно утешая, место, по которому ударила.
словно утешая, место, по которому ударила.
«Я не нарочно, это просто получилось так сильно»,— сказала она, и, словно второй удар грома, — я вдруг почувствовал на своей щеке теплое дыхание и ее губы,— она поцеловала меня. Только тихо, тихо. Но это был поцелуй на моей щеке — вот здесь! — Старик похлопал себя по щеке, и на его глазах выступили слезы.— Я не помню, что произошло дальше,— продолжал он.— Помню только, что я бросился к ней, а она побежала в заднюю, жилую комнату и затворила стеклянную дверь, а я старался открыть ее. И поскольку она, согнувшись и упираясь всем телом, припала к дверному окну, я набрался храбрости и страстно возвратил ей поцелуй через стекло.
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 776 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Химическая коррозия | | | Створення серії тематичних карт на основі статистичних даних в MapInfo та розробка умовних знаків |