
|
Читайте также: |
дарства является не только совершенно неприменимым, но он никогда и не был ясно сформулирован. Это — миф, иррациональная, романтическая и утопическая мечта, это — мечта натурализма и племенного коллективизма.
Хотя это может показаться странным, но современный национализм, несмотря на внутренне присущие ему реакционные и иррациональные тенденции, на протяжении короткого отрезка истории (как раз перед появлением Гегеля) был революционной и либеральной концепцией. Благодаря исторической случайности — вторжению в немецкие княжества первой национальной, а именно — французской армии под командованием Наполеона, и реакции, вызванной этим событием, — национализм перешел в лагерь свободы. Определенный интерес представляет история этих событий и тот способ, которым Гегель вернул национализм назад в тоталитарный лагерь, к которому национализм принадлежал с тех пор, как Платон впервые заявил, что соотношение между греками и варварами такое же, как между господами и рабами.
Заслуживает упоминания то обстоятельство54, что Платон, к сожалению, сформулировал свою политическую доктрину в виде следующих вопросов: Кто должен править? Чья воля должна быть законом? До Руссо обычный ответ на эти вопросы был таким: князь. Руссо дал новый и весьма революционный ответ. «Не князь, — утверждал он, — а народ должен править, не воля одного человека, а воля всех». Таким образом, он изобрел народную, коллективную, или «общую волю», как он ее назвал. И народ, однажды обретший волю, должен был превратиться в сверхличность: «по отношению к чужеземцу (т. е. по отношению к другим народам), — заявлял Руссо, — он выступает как обычное существо, как индивидуум». В этом изобретении чувствуется романтический коллективизм, но нет еще никакого сползания по направлению к национализму. Однако теории Руссо явно содержали зачатки национализма, наиболее характерной чертой которого является рассмотрение различных наций как личностей. Значительный же практический шаг в националистическом направлении был сделан, когда Французская революция торжественно учредила народную армию, основанную на национальной воинской повинности.
Следующим, кто внес свою лепту в теорию национализма, был И. Г. Гердер, бывший ученик и одно время личный друг И. Канта. Гердер утверждал, что хорошо устроенное государство должно иметь естественные границы, т. е. границы, совпадающие с местами, заселенными его «нацией». Эту

 65
65
теорию он впервые выдвинул в своих «Идеях к философии истории человечества» (1784-1792). «Наиболее естественным государством, — писал он, — является государство, состоящее из одного народа с единым национальным характером... Народ — это естественное образование, подобное семье, только значительно более обширное... Как во всех человеческих сообществах... так и в случае государства, естественный порядок является наилучшим, т. е. порядок, при котором каждый выполняет ту функцию, для которой природа предназначила его»55. В этой теории Гердер пытался решить проблему «естественных» границ государства56, но его решение только поставило новую проблему «естественных» границ нации. Правда, на первых порах эта новая проблема не считалась очень важной. Интересно отметить, что Кант сразу распознал в этой работе Гердера опасный иррациональный романтизм и открыто критиковал его, благодаря чему приобрел в Гердере заклятого врага. Я процитирую отрывок из его критики, так как в нем раз и навсегда дана превосходная оценка не только Гердера, но также и всех позднейших философов-оракулов типа Фихте, Шеллинга, Гегеля вместе со всеми их современными последователями: «...не останавливающийся надолго широкий взгляд, проницательность, способная всегда найти аналогии, а в применении их — смелое воображение, связанное с умением располагать при помощи чувств и ощущений к своему предмету, который он все время держит в туманной дали. В этих чувствах и ощущениях мы скорее угадываем большое содержание мыслей или многозначимые намеки, чем холодное рассуждение... Синонимы предлагаются в качестве объяснений, а аллегории выдаются за истины».
Первым, кто снабдил германский национализм теорией, был Фихте. Границы нации он предлагал определять при помощи языка. (Это не улучшает дела. Где различия диалекта становятся различиями языка? На скольких различных языках говорят славяне и немцы или эти различия являются только диалектами?)
Воззрения Фихте получили чрезвычайно курьезное развитие, особенно если мы учтем, что он был одним из основателей немецкого национализма. В 1793 г. он защищал Руссо и Французскую революцию и еще в 1799 г. он заявлял57: «Ясно, что отныне и во веки веков только Французская республика может быть родиной честного человека, что лишь ей он может посвятить свои силы, поскольку не только наибольшие надежды человечества, но даже само его существование связаны с победой Франции... Я посвящаю все мои
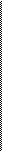

 66
66
способности Республике». Следует отметить, что в тот момент, когда Фихте высказывал эти суждения, он как раз вел переговоры по поводу университетской должности в городе Майнце, тогда находившемся под контролем французов. «В 1804 г., — пишет Э. Н. Андерсон в интересном исследовании национализма, — Фихте... решил оставить службу в Пруссии и хотел принять приглашение из России. Прусское правительство не удовлетворяло его финансовые запросы, и он надеялся на большее признание в России, когда писал русской стороне: "Я буду ваш до смерти!" в случае, если правительство сделает его членом Санкт-Петербургской Академии наук и заплатит ему жалованье не меньше, чем четыреста рублей... Двумя годами позже, — продолжает Андерсон, — трансформация Фихте-космополита в Фихте-националиста была закончена».
Когда Берлин был оккупирован французами, Фихте покинул его из патриотизма, и, как говорит Андерсон, «он не позволил, чтобы это действие осталось незамеченным прусским королем и правительством». Когда А. Мюллер и В. фон Гумбольдт были приняты Наполеоном, Фихте возмущенно писал своей жене: «Я не завидую Мюллеру и Гумбольдту и рад, что я не удостоился этой постыдной чести... Для совести и, очевидно, также для последующего успеха имеет большое значение,... если удается открыто показать свою приверженность доброму делу». По этому поводу Андерсон замечает: «Фактически, он действительно получил выгоду: без сомнения приглашение его в Берлинский университет было вызвано этим эпизодом. Это не принижает патриотизма Фихте, но ставит его в правильную перспективу». Ко всему этому мы можем добавить, что карьера Фихте как философа с самого начала была основана на обмане. Его первая книга «Опыт критики всяческого откровения» была опубликована анонимно как раз тогда, когда ожидался выход кантовской философии религии. Книга Фихте была исключительно бестолковой, что, впрочем, не мешало ей быть умной копией кантовского стиля. Все, включая слухи, было приведено в движение, чтобы заставить людей поверить, что это — работа Канта. Мы правильно поймем эту историю, если уясним, что Фихте нашел издателя только благодаря добросердечности Канта (который никогда не был способен прочесть более, чем первые несколько страниц любой книги). Когда пресса превознесла работу Фихте как одну из кантовских работ, Кант был вынужден сделать публичное заявление, что это работа Фихте, и Фихте, на которого неожиданно снизошла слава, стал профессором в Йене. Однако Кант впоследствии был
вынужден сделать другое заявление, чтобы отделить себя от этого человека, — заявление, в котором встречаются следующие слова: «Боже, спаси нас только от наших друзей, с врагами же мы сами справимся!»я
Таковы несколько эпизодов в карьере человека, «пустозвонство» которого породило современный национализм, равно как и современную идеалистическую философию, возникшую из извращения кантовского учения. (Я следую А. Шопенгауэру, различая «пустозвонство» Фихте и «шарлатанство» Гегеля, хотя я должен признать, что настаивать на таком различении было бы несколько педантично.) Все это интересно в основном потому, что проливает свет на «историю философии» и на «историю» вообще. Я имею в виду не только тот больше юмористический, чем скандальный факт, что такие клоуны были приняты всерьез и что они стали объектами определенного почитания серьезных, хотя часто и скучных исследований (и даже экзаменационных вопросов). Я имею в виду не только тот потрясающий факт, что пустозвон Фихте и шарлатан Гегель рассматриваются на одном уровне с людьми, подобными Демокриту, Паскалю, Декарту, Спинозе, Локку, Юму, Канту, Дж. Ст. Миллю и Бертрану Расселу, и что их моральное учение принимается всерьез и иногда даже считается превосходящим учения названных философов. Я имею в виду также и то, что многие из восторженных историков философии, не способных различить мысль и фантазию, не говоря уже о хорошем и худом, осмелились предположить, что излагаемая ими история является нашим судьей или что их история философии является неявной критикой различных «систем мысли». Вместе с тем очевидно, что такое низкопоклонство может служить только неявной критикой их собственных историй философии и той помпезности и трескотни, с помощью которых они превозносят занятие философией. Думается, существует закон так называемой «человеческой природы», в соответствии с которым напыщенность возрастает в прямой пропорции к недостатку мысли и в обратной — к реальному служению человеческому благосостоянию.
В те времена, когда Фихте стал апостолом национализма, инстинктивный и революционный национализм подымался в Германии как реакция на вторжение Наполеона. (Это была одна из типичных племенных реакций против экспансии сверхнациональной империи.) Народ в то время требовал демократических реформ, которые он понимал в духе Руссо и Французской революции, однако свою революцию он хотел провести без французских завоевателей. Народ восставал
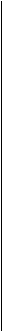
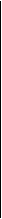
 68
68
против своих собственных князей и против императора одновременно.
Этот ранний национализм в период своего возникновения по силе влияния был сравним с воздействием религии и служил своеобразным прикрытием, маскирующим гуманистическое стремление к свободе и равенству. «Национализм, — пишет Э. Н. Андерсон59, — вырос вместе с упадком ортодоксального христианства, заменяя последнее верой в свой собственный мистический опыт». Это — мистический опыт общности с другими членами угнетенного племени, т. е. опыт, который должен был заменить не только христианство, но и чувство верности и лояльности королю, подорванное злоупотреблениями абсолютизма. Очевидно, что такая непривычно новая и демократическая религия была источником большого раздражения и даже опасности для правящего класса и, в особенности, для прусского короля. Каким же образом следовало реагировать на эту опасность? По окончании освободительных войн Фридрих Вильгельм III прежде всего устранил своих националистически настроенных советников, а затем призвал на службу Гегеля. Дело в том, что Французская революция доказала значительное влияние философии на общество, что постоянно подчеркивал Гегель (поскольку это было основой его собственной карьеры). «Сознание духовного, — писал Гегель60, — теперь по существу есть основа, и благодаря этому господствовать стала философия. Говорили, что исходным пунктом французской революции была философия, и не без основания называли философию мирской мудростью, потому что она есть не только истина в-себе и для-себя,... но и истина, поскольку она становится жизненною в мирском.
Итак, не следует возражать против того, что революция получила первый импульс от философии». Это — не что иное, как указание на понимание Гегелем своей непосредственной задачи, заключающейся в придании философии противоположного импульса, а именно — импульса служения реакции. Конечно, это была уже не первая попытка укрепить силы реакции при помощи философии. Частью этой попытки было извращение идей свободы, равенства и т. п. Вместе с тем, пожалуй, еще более важной задачей этой попытки было приручение революционной националистической религии. Гегель выполнил эту задачу в духе совета Парето «извлекать выгоду из чувств, а не растрачивать энергию в тщетных попытках уничтожить их». Он не пытался встать в явную оппозицию национализму, а приручил его, преобразовав в дисциплинированный прусский авторитаризм. И случилось
так, что он вернул сторонникам закрытого общества мощное оружие, которое в сущности всегда играло в нем важную роль.
Правда, все это было сделано достаточно неуклюже. Гегель, стремясь ублажить правительство, иногда нападал на националистов слишком открыто. «Но в новейшее время, — писал он61, — о народном суверенитете обычно стали говорить как о противоположном существующему в монархе суверенитету — в таком противопоставлении представление о народном суверенитете принадлежит к разряду тех путаных мыслей, в основе которых лежит пустое представление о народе. Народ, взятый без своего монарха... есть бесформенная масса». Ранее в «Энциклопедии философских наук» он писал: «агрегат частных лиц часто называют народом; но в качестве такого агрегата он есть, однако, vulgus, а не populus*; и в этом отношении единственной целью государства является то, чтобы народ не получал существования, не достигал власти и не совершал действий в качестве такого агрегата. Такое состояние народа есть состояние бесправности, безнравственности и неразумия вообще; в таком состоянии народ представлял бы собой только аморфную, беспорядочную, слепую силу, подобную силе взбаламученного стихийного моря, которое, однако, не разрушает себя, как это произошло бы с народом как духовной стихией. Часто можно было слышать, как такое состояние представляли как состояние истинной свободы». Здесь, безусловно, содержится намек на либеральных националистов, которых король ненавидел больше чумы. Это видно еще четче, если мы рассмотрим отношение Гегеля к мечтам ранних националистов о возрождении Германской империи: «Ложь существования единой империи, — говорил он в своем восхвалении последних событий того времени в Пруссии, — совершенно исчезла. Она распалась на суверенные государства». Антилиберальные взгляды заставили Гегеля обратиться к Англии как к наиболее характерному примеру нации в худшем смысле этого слова. «Так, например, если говорить об Англии, — писал он, — конституция которой считается наиболее свободной, ибо частные лица имеют здесь преобладающее участие в делах государства, то опыт показывает, что страна эта в гражданском и уголовном законодательстве, в отношениях права и свободы собственности, во всех учреждениях, касающихся искусства и науки и т. д., оказывается по сравнению с другими культурными государствами Европы страной наи-
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ОРАКУЛОВ 5 страница | | | Vulgus (лат.) — толпа; populus (лат.) — народ. — Прим. переводника. 1 страница |