
|
Читайте также: |
— Но почему? — удивился он.
— Поговори с ней, тогда узнаешь.
Он отправился к ней, и она дала согласие. Но с тем условием, что переделают текст так, чтобы не упоминался Бог. «Сотворение мира» — по Марксу. Естественно, что Маркович отказался.
Нетеатральная атмосфера зрительного зала продолжается и в антрактах. Публика не общается между собой, не обменивается впечатлениями — видно, что это случайные посетители, чувствуют они себя здесь стесненно и неуютно. Одни устремляются в буфет, чтобы как-то занять время в незнакомом им месте, другие в одиночку или парами молча двигаются по фойе, напряженно глядя в затылок впереди идущим. В Большом театре — около двух тысяч мест, но, несмотря на переполненный зал, артисты поют в основном для нескольких десятков человек. Тех, кто сидит в директорской ложе. Для своих коллег-соперников. Для своих родственников и почитателей, которые есть у каждого известного артиста. Их в России называют поклонниками, я их буду называть так же. Если в антракте вы увидите группу людей, оживленно разговаривающих, спорящих о спектакле, можете быть уверены, что это — поклонники.
Так как оперный артист поет всю жизнь только в одном театре, то часто они сопровождают его от начала до конца карьеры, входят в его жизнь, стареют вместе с ним, и они же идут за его гробом. Они очень близки артисту, потому что пришли в его мир через его искусство. Оно им необходимо. И часто певец находит в них сочувствие и понимание своего творчества даже больше, чем в своей собственной семье. У меня было много поклонников, которые были рядом со мной с самого начала моей карьеры в Большом театре, и именно они, не побоявшись гебешников и связанных с ними неприятностей, пришли проводить меня на аэродром, когда я уезжала из России, — и никто из моих коллег, с кем я пела четверть века на одной сцене.
Среди моих поклонников, кроме молодежи, было немало мужчин и женщин среднего возраста. Некоторые стали моими друзьями, и я в течение многих лет наблюдала их жизнь. Работают они учителями, лаборантами, инженерами, техниками — в общем, наша советская интеллигенция. Уходят на работу в 7–8 утра, возвращаются в 5-б вечера. В большинстве — неженатые, незамужние, детей нет. Чаще всего живут в коммунальных квартирах, получают зарплату 90–120 рублей в месяц. Как же они при такой нищенской жизни должны удовлетворять свои духовные запросы? Если они любят искусство — это их спасение: жизнь приобретает смысл. В театре они находят свой идеал. Во время спектакля вместе с любимым артистом можно на несколько часов уйти в другой мир — и они ждут этого дня, как праздника. Все неприятности и радости артиста они переживают как свои собственные, и после успешного представления они — самые счастливые люди на земле. А на другой день, придя на работу, можно не видеть, не замечать всей серости ужасающе однообразной жизни, а вспоминать и мечтать. Но ведь при нищенской месячной зарплате в 90 рублей нужно каждый день есть, ежемесячно платить за квартиру, за лекарства, если заболеешь, хочется купить книги, женщине — пойти в парикмахерскую, да просто туфли и платье купить хоть раз в два года. А пара обуви стоит 50–60 рублей, килограмм кофе — 20. Но они готовы остаться без всего, но купить билет в театр. Они готовятся к спектаклям не меньше артиста. Перезваниваются между собою, справляясь о его здоровье, и, если он себя плохо чувствует, они страдают больше него самого, потому что тот просто не будет петь, а для них это трагедия, так как они в этот вечер не услышат своего кумира.
У меня были поклонники, которые приезжали на мои спектакли из других городов. Бывало, чувствую недомогание, не хочу петь, но я знаю, что сегодня одна из них прилетела в Москву, истратив на самолет свои последние гроши, и, отказав себе в обеде, купила мне цветы… И я вылезаю из постели, заставляю себя собраться и иду петь для нее спектакль. Если бы не было таких вот поклонников, на спектаклях Большого театра была бы мертвая атмосфера. Это наша настоящая публика. Они знают артистов, знают репертуар, не пропускают ни одного спектакля с участием своего любимца. Они с полной эмоциональной отдачей воспринимают и переживают происходящее на сцене, аплодируют любимым певцам, увлекая за собой сидящих рядом, стараются создать нужную для вдохновения артиста атмосферу, чтобы ему захотелось петь. Да и просто в некоторых местах оперы необходима минута времени, чтобы сбросить усталость, успокоить дыхание. Если не придет на спектакль несколько десятков поклонников, даже у первейших солистов успеха не будет. Артисты и оперы, и балета это очень хорошо знают, и каждый об этом заботится — заказывает в кассе своим поклонникам билеты.
Теноровые поклонницы — это, конечно, особая статья. Но нечего иронизировать — они настоящие болельщики, друзья певцов. Помню, когда Лемешев пел Фра-Дьяволо — партия очень высокая, а ему было около 60, и с верхними нотами иногда случались неприятности, — так нужно было смотреть не на сцену, а в зал: в каком напряжении были его поклонницы, готовые кинуться ему на помощь в любую секунду! Они знали все его мизансцены, все опасные места в ариях и, если чувствовали его неуверенность в подходе к верхним нотам, начинали заранее кричать «браво!», закрывая его на всякий случай, если он сорвется. Им нужно было, чтобы он выходил на сцену, этот изумительный артист, они его обожали и, как могли, поддерживали в нем уже угасавшую веру в свои силы, старались продлить его творческую жизнь.
В отличие от Большого театра, на концертах в Большом зале консерватории встречаешь всегда одних и тех же людей — это москвичи. Одна половина их — в основном, усталые интеллигентные женщины. Прямо с работы, не переодеваясь, порою с продуктовыми сумками в руках, идут они на симфонические концерты или вокальные вечера. Чаще всего они одиноки, без семьи, и музыка в их жизни играет важнейшую роль. Другая же половина — профессионалы: инструменталисты, певцы, студенты и преподаватели консерватории, музыкальных школ, а также артисты разных оркестров. Это та самая московская публика, о которой остаются столь теплые воспоминания у всех западных гастролеров, посещающих столицу Советского Союза.
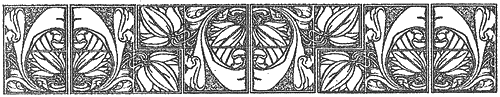
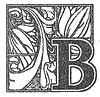
В феврале 1956 года открылся XX съезд партии. Никто никаких новостей не ждал, думали — просто очередная говорильня, и вдруг поползли по Москве слухи, да какие! Культ личности Сталина… массовые расстрелы невинных… уничтожение всей армейской верхушки… пытки в тюрьмах… доносы. Все это выложил Хрущев в своем докладе на закрытом заседании XX съезда партии перед изумленными делегатами. Изумленными не столько самим сообщением — ибо они-то почти все это знали, — сколько тем, что впервые за все годы советской власти с этой партийной трибуны слышали вслух произнесенные слова правды.
Слухи расползались, обрастая чудовищными подробностями пыток, именами замученных в тюрьмах… Сталин — палач!.. По вине Сталина сотни тысяч безоружных советских солдат в первые же дни войны попали в плен… Сталин в страхе прятался, не принимал участия в решениях Военного совета… Сталин — трус!.. Сталин — преступник!.. Культ личности… Сфабрикованное Сталиным «дело врачей»… Сталин — маньяк… Культ личности…
Люди, потрясенные возможностью говорить вслух то, о чем раньше боялись и думать, ходили из дома в дом, останавливались со знакомыми на улицах и говорили… говорили… не замечая, что не делают самого естественного и главного, а именно: не требуют к ответу прославленных вождей! Уж они-то видели и знали, что делает Сталин.
Культ личности! Но кто же его создал? И что делали в годы культа члены Политбюро — мозг и сердце партии? И лично товарищ Никита Сергеевич Хрущев? Они же первыми курили фимиам, махали кадилом, изощряясь в славословии своему вождю, лихо выплясывая перед ним на ночных попойках — кто лезгинку, а кто гопака.
А теперь, после смерти своего хозяина, плясуны взяли на себя роль судей и обвинителей! Всем скопом вцепившись в глотку Берии, бывшему главе КГБ, проверенным сталинским методом тайно прикончили его — избавились от самого осведомленного свидетеля их общих преступлений, а все чудовищные злодеяния правящей партии свалили на мертвого Сталина. И вот уже матерые волки, надев на себя овечьи шкуры, дружно вопят: «Ленинское ядро Коммунистической партии разоблачило культ личности Сталина!»
Доклад вызывал чувство отчаянья и унижения за себя, за свой народ. Очнемся ли мы наконец от духовной спячки, от апатии, позволяющей нам покорно, привычно принимать потоки циничной, гнусной лжи?
Хрущев хоть и обнажил уродства коммунистического режима, публично сорвав с него покровы, но закончил свой доклад следующим обращением к присутствующим:
«Мы не можем допустить, чтобы этот вопрос вышел за пределы кругов партии, в особенности же, чтобы он попал в печать. Нам следует знать пределы, мы не должны давать оружие в руки нашим врагам, не должны полоскать грязное белье у них на глазах».
Уничтожение лучшей части крестьянства во время коллективизации, расстрел всего командования армии перед войной, за что советский народ заплатил миллионами жертв во время войны и руинами на месте бывших городов, уничтожение интеллигенции — все это всего лишь «грязное белье»…
Так прополощем его потихоньку между собою и выйдем на народ в белоснежных одеяниях с пальмовыми ветвями в руках, как ангелы-миротворцы. О Господи, что же нужно иметь за душой, чтобы в час великой скорби заботиться лишь о том, как бы получше замести кровавые следы преступлений!
В печати тогда, естественно, ничего не появилось, но, как ни заклинал Хрущев своих собратьев помалкивать, уже через несколько дней вся Москва все знала.
Казалось бы, народ обязан действовать, открыто выразить свое возмущение преступлениями правящей партии. Нет, внешне народный гнев не выразился ни в чем. Просто вслух стали говорить о том, о чем многие уже давно знали, а другие догадывались. Ходили по рукам отпечатанные на машинке листки с докладом Хрущева, вызывая в народе чувство смущения и растерянности… Раньше хоть была лазейка и можно было спрятаться за неизвестностью, за незнанием. Теперь же все граждане страны — раз не потребовали к ответу свое преступное правительство — становились его сообщниками. Мне кажется, что во имя этого и сделал свой доклад Хрущев — хитрый и умный деревенский русский мужик, — чтобы всех граждан Советского Союза повязать одной веревочкой.
В те годы все эти сообщения породили во мне чувство собственной ничтожности, моральной неполноценности. Что мы за народ такой? Неужели мы совсем лишены чувства достоинства, чести, задавлены низменным страхом, коль позволили сотворить над собой такое? Нет, русский народ не труслив. На войне безоружные солдаты шли в атаку на верную смерть, готовы были умереть, защищая отчизну. Но кому хочется умирать просто так, как последней скотине? Где-то в подвале, тайно избитым, униженным, замученным, под пытками своих же соотечественников-палачей? Во имя чего? Ведь голоса твоего, как ни кричи, никто не услышит. Нет, это не страх, а гораздо хуже — это безнадежность. Впервые мне со всей ясностью представилась патологическая ложь всей моей прошлой, настоящей и будущей жизни в этой стране. Через два месяца после XX съезда первым и, насколько мне известно, единственным, кто откликнулся на него так, как полагалось в создавшейся ситуации, был многолетний генеральный секретарь Союза писателей Фадеев — как назвал его в своем докладе Хрущев, «сталинский агент, лично доносивший ему на писателей». Много жизней на его совести, и действовал он не из корысти, а считая это долгом коммуниста.
Когда сбросили с пьедестала его кумира и впереди замаячили тени возвращающихся из тюрем писателей, он пустил себе пулю в лоб — 13 мая 1956 года.
Вернулся из заключения и мой отец и, хоть отсидел в тюрьме 10 лет, остался по-прежнему убежденным коммунистом. Теперь он приехал в Москву добиваться восстановления в партии. Но сначала пришел в отдел кадров Большого театра с доносом на меня, что при поступлении в театр я всех обманула и не сообщила в анкетах, что он арестован по политической статье, о чем я хорошо знала. Этот чистейшей воды коммунист-ленинец надеялся, что меня немедленно выгонят из театра. Да просчитался мой папаша — другие уже настали времена. Умер он от рака легких через два года. Сколько же моральных уродов породила советская власть!
У нас в театре пел замечательный драматический тенор Георгий Нэлепп. Артист безупречного вкуса, высокой вокальной культуры. В его голосе было столько красоты, юношеской свежести, звонкости. Когда я поступила в театр, мы вместе работали над оперой «Фиделио», и это одно из лучших воспоминаний моей творческой жизни. До Большого театра он долго пел в Ленинградском оперном театре им. Кирова. Был членом партии, имел все высшие награды и звания, несколько раз получал Сталинские премии и пользовался большим авторитетом, уважением своих товарищей, любовью публики. Было у него оригинальное для мужчины хобби: он совершенно изумительно вышивал крестиком полотенца и мужские рубашки, говорил, что это успокаивает нервы.
Однажды утром я пришла в театр по какому-то делу и ждала в директорской ложе Н. С. Ханаева, бывшего в те годы директором оперной труппы. В зале шла оркестровая репетиция оперы «Садко», Нэлепп пел заглавную партию. Мне очень хотелось послушать репетицию, а Никандр Сергеевич опаздывал, и я в нетерпении ходила по лестничной площадке около директорской ложи. Этажом ниже, там, где гардероб, у входа, молча сидела какая-то женщина средних лет, бедно одетая. Вошел с улицы Ханаев, и дежурный капельдинер, снимая с него шубу, доложил:
— Вот, Никандр Сергеевич, женщина просит вызвать Георгия Михайловича с репетиции. Уже давно сидит здесь, не знаю, как быть.
Женщина обратилась к Ханаеву:
— У меня срочное дело. Я сегодня приехала, очень прошу вас, позовите, пожалуйста, Георгия Михайловича.
— А вы кто ему будете?
— Он меня не знает, но мне нужно передать важное поручение от его знакомого.
Я стою наверху, и Никандр Сергеевич говорит мне:
— Скажи, Галя, секретарю, чтобы вызвала Нэлеппа со сцены, если он свободен.
Я сделала, что он просил, и вернулась на прежнее место, ожидая, когда Ханаев поднимется. И вот какая сцена разыгралась перед всеми нами. Г. М. Нэлепп, народный артист СССР, лауреат Сталинских премий, холеный, знаменитый тенор Большого театра, медленно, с достоинством, как барин, спускается вниз по лестнице, застеленной красной дорожкой… Сидящая внизу женщина молча поднялась ему навстречу. Он подошел к ней:
— Здравствуйте.
Она молчит.
— Вы хотели меня видеть?
И вдруг она открыла рот, да как плюнет ему в лицо!
— Вот тебе, гадина, за то, что погубил моего мужа, за то, что ты погубил мою семью! Но я выжила, чтобы плюнуть тебе в рожу! Будь ты проклят!
Повернулась и, шатаясь, вышла вон.
Нэлепп стал белым, как мел, и, прислонившись к стене, отер лицо носовым платком. Мимо него, смущенный, прошел наверх Ханаев. Капельдинер не знал, куда девать глаза, а я скорее убежала в аванложу… Никандр Сергеевич позвал меня в свой кабинет. Меня трясло, как в лихорадке, я не могла вымолвить ни слова.
— Да ты не волнуйся, не такое еще теперь увидим. А Жорка многих в свое время погубил, еще работая в Ленинградском театре. Что, непохоже? То-то и оно, что, глядя на него, такое никому и в голову не придет…
Вскоре Нэлепп умер от сердечного приступа. Было ему всего лишь пятьдесят два года.
Лучше всех описал настроения тех лет Солженицын в книге «Раковый корпус». Там есть такой эпизод: когда партийный работник средней руки, за которым числится несколько доносов и загубленных жизней, узнаёт, что начинают выпускать из тюрем невинно осужденных, он совершенно искренне удивлен, даже потрясен: зачем их выпускают? Они уже сидят по многу лет, они уже там привыкли… А что же будет с нами? Почему о нас не подумали, ведь мы выполняли волю партии!.. (Кстати, фашисты тоже выполняли волю своей партии. За что же их судили?) Это была одна часть населения, и немалая. Но была и другая, гораздо большая — реабилитированные, досрочно освобожденные, их семьи и просто граждане Советского Союза.
Эпоха позднего Реабилитанса! В столицу со всех концов страны стекались истощенные, измученные люди — те, кто выжил в советских концлагерях. По одежде, нищенски бедной, по отрешенным, изможденным лицам их легко узнавали на улицах. Теперь, приехав в Москву в поисках справедливости, они месяцами обивали пороги ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Генеральной прокуратуры, добиваясь — кто восстановления в партии, а кто — документа о реабилитации. Эти клочки бумаги с циничной простотой сообщали полутрупам-калекам и пожизненным инвалидам, что они были невинно осуждены и, отсидев в тюрьмах по десять — двадцать лет, теперь, за отсутствием состава преступления, досрочно освобождены и реабилитированы.
Своей безответственностью и безразличием к человеческой жизни жалкий клочок бумаги напоминал, что никакие людские жертвы не способны изменить звериный лик советского режима.
Как и прежде, все сталинские соратники отсиживались за стенами Кремля, никто из них не был судим, и их физиономии все еще украшали фасады домов, нагло глядя и на реабилитированных, и на весь одураченный народ. Историки в срочном порядке засели заново сочинять историю партии, а также историю Великой Отечественной войны. С благословения верных соратников перемололи на бумагу «бессмертные» труды бывшего любимого вождя и стали выскабливать его имя со всех страниц советской литературы, где над его прославлением столько лет трудились не покладая рук поэты и писатели. Торжественно, под звуки фанфар, бесстрашно отняли у мертвого узурпатора присвоенные им города, уже десятилетиями носившие его имя. В общем, историю Советского государства снова перекраивали и латали, как старые, драные штаны, а мертвеца и память о нем выдали народу на расправу. И запылали костры по всей стране, сжигая портреты и картины с изображениями Сталина. И полетели наземь отрубленные головы со скульптурных изображений вождя и учителя всех времен и народов, на что ушло немало времени, ибо не было в стране завода, школы, театра, университета, улицы, площади, парка, где не красовался бы прославленный своими учениками Генеральный секретарь ЦК. И вот теперь, проявляя чудеса отваги и героизма, его можно было, привязав веревкой за ноги, стащить с пьедестала и всенародно казнить, разбивая молотом безмолвную мертвую массу.
В начале марта 1956 года Слава уехал в свое первое турне в Англию, а я дома со дня на день ждала рождения ребенка. Он звонил мне каждый день из Лондона, и издалека, сквозь помехи ко мне неслись его отчаянные крики:
— Не смей рожать без меня!.. Подожди, осталось всего несколько дней, и я прилечу!
— Ты соображаешь, что говоришь, — будто это от меня зависит!
— Зависит! Если ты захочешь, ты все сможешь. Дай мне слово, что дождешься меня, слышишь?
— Ну что ты мелешь? Какое слово, если срок подходит?
— А ты лежи и не двигайся. Моя мать меня десять месяцев вынашивала — возможно, оттого я такой умный и талантливый. Поняла? И не смей читать страшные книги… Читай сонеты Шекспира!.. Слышишь меня? И смотри только на все красивое!
— Да где я увижу красивое — я никуда не выхожу!..
— И правильно делаешь! Смотрись в зеркало — и увидишь.
В общем, сидит в Лондоне и командует парадом. А действительно, почему, собственно, я должна рожать в его отсутствие, одна переживать всякие страхи и волнения? Уехал за границу, там у него успех, масса новых впечатлений, а вернется домой — и пожалуйста вам, готовый ребеночек. Нет уж, пусть мой муж будет со мной рядом, поволнуется и хоть немножко помучается со мной вместе. Да я не только двигаться, а и дышать не буду, но дождусь его обязательно. Как сказала себе — так и получилось. Дождалась! Вечером 17 марта он вернулся домой, окрыленный успехом гастролей, счастливый и гордый тем, что домашнее бабье царство выполнило все его приказы: жена, еле шевелясь, сидит в кресле в ожидании своего повелителя. И вот, как у фокусника из волшебного ящика появляются всевозможные чудеса, так и из Славиного чемодана полетели на меня фантастические шелка, шали, духи и еще какие-то невероятно красивые вещи, которые я не успевала и рассмотреть, и, наконец, вывалилась оттуда роскошная шуба и упала мне на колени. Я только ахала и от изумления не могла произнести ни слова, а сияющий Слава ходил вокруг и объяснял:
— Вот это пойдет к твоим глазам… Из этого ты закажи концертное платье. А вот эту материю только я увидел, мне стало ясно, что это специально для тебя. Вот видишь, как хорошо, что дождалась меня, — я всегда бываю прав. Теперь у тебя будет хорошее настроение и тебе легче будет рожать. Как только станет очень больно, ты вспомни про какое-нибудь красивое платье, и все пройдет.
Его просто распирало от гордости и удовольствия, что он такой замечательный, такой богатый муж, что смог преподнести мне такие красивые вещи, каких нет ни у одной артистки театра. А я-то знала, что мой «богатый» муж и, как уже тогда писали английские газеты, «гениальный Ростропович», чтобы иметь возможность купить для меня все эти подарки, наверняка за две недели гастролей ни разу не пообедал, потому что получал за концерт 80 фунтов, а остальные деньги, что получал от импресарио, сдавал в советское посольство.
Далеко за полночь, когда усталый с дороги Слава уже крепко спал, я все не могла сомкнуть глаз и то воображала, какие чудные платья получатся из дивных шелков, то как я надену мою новую шубу… и пойду в театр… и… Как вдруг мой долгожданный ребенок резко и властно дал мне знать, что он желает появиться на свет. Первой мыслью было немедленно будить Славу и ехать в больницу, но, вспомнив, как я при первых родах двое суток лежала в родильном отделении на столе, решила ждать, быть дома как можно дольше. Снова — резкая схватка. Но нет, это еще начало, может еще много часов пройти… нет, еще не скоро… Напряженно вслушиваясь и включаясь в каждое движение бьющейся во мне жизни, я чувствовала, как постепенно наполняюсь гигантской силой, приближаясь к моему звездному часу.
Наконец, в пять часов утра я поняла, что нужно срочно будить моего мужа. Стараясь не стонать, трясу его тихонько за плечо:
— Слава…
— Мммм…
— Слава…
— Аааа…
Устал — не просыпается. Тогда я ему шепчу:
— Слава, я, кажется, рожаю.
Как он вылетел из кровати! Заметался по квартире, всех будит:
— Мама! Римма! Вставайте все, Галя рожает!
Я — скорее следом за ним:
— Да не рожаю, не кричи ты на весь дом! А только пора в больницу ехать. О-о-о-о-о!..
Забыл все номера телефонов, чтобы такси вызвать, брюки потерял, все у него из рук валится, в общем — мужчина. Бегает из комнаты в комнату и все при читает:
— Ты только не ходи быстро, не делай резких движений, не наклоняйся, мы тебя сами оденем…
— Да не волнуйся ты, я же чувствую, что еще есть время. Ой!
— Римма, скорей одевайте ее и немедленно в машину!
— Ничего, уже отпустило… Не торопи ты меня, я сама ничего не соображаю!
Смотрю: моя свекровь с распущенными белыми волосами, как привидение, молча ходит по квартире, открывая все дверцы и выдвигая ящики в шкафах, буфете, в комоде…
— Что вы делаете, Софья Николаевна?
— Молчите, Галя, так надо. Все должно быть настежь открыто, чтобы вам легче было рожать.
Хоть от боли мне и было уже невмоготу, а все же я, надев новую шубу, к ужасу моего мужа, скорчившись пошла к себе в комнату полюбоваться на себя в зеркало.
— Нет, ты сошла с ума! Как ты можешь?
— А вот могу! У меня никогда такой не было… Ой!..
— Мама, я умираю! Скажи ей, что нужно немедленно ехать!
Всю дорогу я, стиснув зубы, старалась не стонать, видя, что мой бледный, перепуганный муж почти теряет сознание от страха, что я могу родить прямо в машине. В Пироговской больнице место было приготовлено заранее, меня уже там ждали — не то что десять лет назад в Ленинграде, когда я, изможденная блокадная девчонка, почти двадцать часов сидела в коридоре, прося принять меня в больницу. Теперь здесь принимали Галину Павловну Вишневскую, солистку Большого театра, и все меня обхаживали как могли.
18 марта 1956 года, в 13 часов дня, родилась моя дочь. Рождение такого желанного ребенка! Мне казалось, что ангелы на крыльях несут меня в небесах и в честь моего торжества вокруг звучат ликующие гимны, наполняя меня чувством неземного восторга и счастья. Моя дочь казалась мне совершенством красоты. И в самом деле — она родилась удивительно красивой, не по-детски пропорционально сложенной, с чистой белой кожей, и уже через пять минут внимательно смотрела на меня не мутными детскими глазками, а ясным, осмысленным взглядом — казалось, она хочет что-то очень важное мне сказать. Видно, Славины ночные чтения мне сонетов Шекспира не прошли даром, и даже акушерка, принимавшая у меня роды, сказала:
— Ну, Галина Павловна, сколько я в жизни своей детей приняла, а такой еще не видела.
Я хотела назвать ее Екатериной, но получила от Славы жалобную записку: «Умоляю тебя не делать этого. Мы не можем назвать ее Екатериной по серьезным техническим причинам — ведь я буквы „р“ не выговариваю, и она еще будет меня дразнить. Давай назовем ее Ольгой».
Через неделю я уже спускалась по лестнице больницы, впереди шла нянька, неся мое сокровище, а внизу меня ждали Слава, Софья Николаевна, Вероника, друзья…
Так как в советских больницах запрещается посещать рожениц, то Слава только теперь и увидел свою первую дочь. Он схватил ее и, неумело перекладывая маленький сверток в своих длинных руках, крепко вцепился в него пальцами, боясь уронить. От волнения и не заметил, что где-то потерял шляпу, перчатки… Вид крошечного существа, явившегося в этот мир, чтобы продолжить жизнь породивших его, приводил его в неописуемый восторг, и он, смеясь и чуть не плача, все повторял:
— Нет, это чудо, это просто чудо! Мама, посмотри, какая она красавица… нет, посмотрите все!!! Ведь правда, она красавица?
И Софья Николаевна, с гордостью разглядывая первую внучку, удовлетворенно кивала:
— Да-да, наша порода. Уж вы, Галя, на меня как ни обижайтесь, а на вас она не похожа. Губы в нашу породу, у нас у всех такие.
Ей вторила Вероника:
— Славка, у нее же твой нос и глаза! Да-а, хороша, наша порода!
— Ну что, всё распределили? Ваша, ваша — между прочим, это я ее родила. Может быть, вы и для меня что-нибудь оставили?
И все, блаженно улыбаясь, смотрели на «нашу породу», которая, посапывая и сладко чмокая крошечными губами, покоилась у Славы на руках.
А через две недели мой муж улетел в свое первое американское турне.
В этот раз я была даже рада его отъезду, надеясь, что за два месяца его отсутствия легче будет приспособиться к новым бытовым проблемам, свалившимся на нас с появлением Ольги, и снова более или менее наладить домашнюю жизнь. Моя Римма работала с утра до ночи как заведенная. Утром часами стояла в очередях за продуктами, а вернувшись домой, убирала квартиру и одновременно готовила обед.
Для этого ей надо было поистине вывернуть мозги наизнанку, чтобы придумать, что же можно изобрести из куска тощего мяса, который нужно три раза провернуть в мясорубке — иначе его потом не прожуешь, или из жилистой костлявой курицы, упорно не желающей быть съеденной.
Но нет предела изобретательности советских женщин. И если до сих пор еще никто не придумал способа советскую курицу до мягкости изжарить, не превратив ее в жалкий, обуглившийся труп, то, чтобы сварить ее, у Риммы был простой, как все гениальное, способ: она опускала в кастрюлю стеклянную пробку от графина и всех уверяла, что это помогает. Я же, хоть и чувствовала своими немеющими от усилий челюстями, что никакой разницы нет, не хотела лишать ее и себя иллюзии победы над упрямой, жилистой птицей, и, когда мне самой приходилось варить замученную жизнью, несчастную куру, я, как загипнотизированная, тоже опускала в кастрюлю большую стеклянную пробку. Если к этому богатому ассортименту добавить еще картошку, капусту и соленые огурцы — то вот, пожалуй, и весь набор продуктов, из которых советская женщина должна в течение всей жизни ежедневно готовить обед для семьи.
Перед этими ее героическими усилиями и полетом фантазии язык немеет. Свой восторг и восхищение можно выразить, только молча сняв перед нею шляпу.
По утрам Римма исправно появлялась в дверях моей комнаты и мрачно задавала провокационный вопрос:
— Что будем сегодня готовить?
Каждый раз я вздрагивала в предчувствии надвигающегося неразрешимого конфликта, достойного шекспировской трагедии, и не было в моей жизни другого вопроса, перед которым бы я так безнадежно умолкала и опускала руки. Понимая, что все человеческие страсти ничто в сравнении с Вечностью, повергнутая во прах, я застывала в мучительных раздумьях, почти как Гамлет: «Есть или не есть?..» И если есть, то что?!
В голове моей, сведенной спазмой усилия, медленно и тяжело, как жернова, проворачивались какие-то жалкие идеи, унося меня в иные сферы.
— Да вы слышите, чего я спрашиваю-то?
У меня начинало тянуть под ложечкой, я возвращалась на грешную землю и, взирая на стоящую в дверях неумолимую Судьбу, нечеловеческими усилиями воли тщетно старалась расшевелить свою фантазию.
— Вот-вот, это вам не в театре петь!
Тогда, тупо глядя на нее, я начинала вытягивать из себя бездарные предложения, чего от меня только и ждали.
— Че-го-о-о? Рыбу-у?.. Ха-ха! Да где же я ее достану? Вот умора-то!.. Цыплят? Ну, знаете… Вы что, с Луны свалились? Когда это они в магазинах бывали?.. Овощей? Нет, вы соображаете, что говорите-то? Забыли, что ли, что, кроме капусты и картошки, ничего не бывает? Уставились в потолок — с вами серьезно говорить-то нельзя… Так чего сегодня будем готовить?
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Галина Павловна Вишневская Галина. История жизни 12 страница | | | Галина Павловна Вишневская Галина. История жизни 14 страница |