
|
Читайте также: |
Научные результаты «относительны» (если этот термин вообще можно использовать) лишь постольку, поскольку они являются результатами определенной стадии научного развития и подлежат смещению в ходе научного прогресса. Это, однако, не значит, что истина «относительна». Если утверждение истинно, оно истинно всегда10. Это значит, что большинство научных результатов имеют характер гипотез, т.е. утверждений, доказательство которых не могут быть окончательными и которые поэтому могут быть пересмотрены в любое время. Приведенные соображения (которые я более подробно развил в другом месте11), хотя они и не необходимы для критики социологистов, способны, по-видимому, помочь лучшему пониманию их теорий. Кроме того, они проливают некоторый свет (возвращаясь к основному предмету моей критики) на важность роли, которую сотрудничество, интерсубъективность и общественный (публичный) характер научного метода играют в научном критицизме и научном прогрессе.
Возвращаясь к анализу метода социальных наук, мы вынуждены признать, что метод этих наук не приобрел еще в полной мере общественного характера. Социальные науки обязаны этим отчасти разрушительному интеллектуальному влиянию Аристотеля и Гегеля, а отчасти, возможно, и своей неспособности использовать социальные инструменты научной объективности. Поэтому они являются подлинно «тотальными идеологиями». Иначе говоря, в социальных науках некоторые ученые не способны говорить на общем языке и даже не желают этого. Однако причина этого — не классовый интерес, а средство выхода из этой ситуации — не гегелевский диалектический синтез и не самоанализ. Единственный путь, открытый перед социальными науками, состоит в том, чтобы забыть словесные перепалки и энергично взяться за практические проблемы нашего времени с помощью теоретических методов, которые в основе своей одни и те же для всех наук. Я имею в виду метод проб и ошибок, а также метод выдвижения гипотез, которые могут быть проверены на
практике, и собственно практическую проверку таких гипотез. Таким образом, необходима такая социальная технология, достижения которой могут быть проверены с помощью постепенной или поэтапной социальной инженерии.
Лекарственное средство, предложенное нами для социальных наук, диаметрально противоположно тому, что предполагается социологией знания. Социологизм убежден, что методологические трудности в этих науках создает не их внепрактический характер, а скорее то обстоятельство, что практические и теоретические проблемы в социальном и политическом знании слишком тесно переплетены друг с другом. Так, в основополагающем труде по социологии знания мы можем прочитать12: «отличительная черта политического знания, в противоположность "точному" знанию, состоит в том, что знание и воля, или рациональный элемент и сфера иррационального, нераздельно, сущностно переплетены». На это мы можем заметить, что «знание» и «воля» в определенном смысле всегда неразделимы, однако это не приводит с необходимостью ни к каким опасным ловушкам. Никакой ученый не способен познавать без усилий и без интереса. И в этих усилиях всегда присутствует определенная доля личного интереса. Инженер исследует вещи преимущественно с практической точки зрения так же, как и фермер. Практика — не враг теоретического знания, а наиболее значимый стимул к нему. Хотя определенная доля равнодушия к ней, возможно, приличествует ученому, существует множество примеров, которые показывают, что для ученого подобное равнодушие не всегда плодотворно. Однако для ученого существенно сохранить контакт с реальностью, с практикой, поскольку тот, кто ее презирает, расплачивается за это тем, что неизбежно впадает в схоластику. Практическое применение наших открытий есть, таким образом, средство, с помощью которого мы можем устранить иррационализм из социальной науки, а ни в коем случае не попытка отделить знание от «воли».
В противоположность этому социология знания надеется реформировать социальные науки, заставив ученых для ликвидации предубеждений сознательно воспринимать силы, действующие в обществе, и те идеологии, с которыми эти силы сочетаются на уровне бессознательного. Однако основной источник неприятностей, связанных с предубеждениями, состоит в том, что такого непосредственного пути избавления от них просто не существует. Как мы можем знать, достигли ли мы какого-то прогресса в наших попытках освободиться от предубеждений? Разве в общем случае тот, кто наиболее



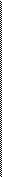 258
258
убежден, что избавился от своих предрассудков, не подвержен предрассудкам сильнее всего? Мысль о том, что социологические, психологические или антропологические исследования предубеждений могут помочь нам освободиться от них, является совершенно ошибочной — ведь многие из тех, кто проводит такие исследования, полны предубеждений. Самоанализ же не только не способен помочь нам преодолеть бессознательные детерминанты наших воззрений, а зачастую даже приводит к более тонкому самообману. Например, в той же самой книге по социологии знания13 мы можем прочитать следующее: «Имеется усиливающаяся тенденция превращать сознание в фактор, с помощью которого мы можем стать еще более управляемы на бессознательном уровне... Тем, кто испытывает страх от того, что возрастание знания о детерминирующих факторах может парализовывать наши решения и угнетать "свободу", следует успокоиться. Ведь детерминирован в действительности лишь тот, кто не осведомлен о наиболее существенных детерминирующих факторах и действует непосредственно под натиском детерминант, ему неизвестных». Процитированный отрывок — думаю, что это совершенно очевидно, — есть не что иное, как просто повторение любимой идеи Гегеля, которую Энгельс наивно воспроизвел, сказав14: «Свобода есть познание необходимости». Однако эта идея является реакционным предубеждением. Разве те, кто действует под прессом хорошо известных детерминант, к примеру политической тирании, могли освободиться от такого пресса посредством своего знания? Только Гегель мог рассказывать нам подобные сказки. Тот же факт, что социология знания сохраняет это предубеждение, с достаточной определенностью показывает: короткий (гегельянский, всегда гегельянский) путь к избавлению нас от наших идеологий невозможен. Самоанализ — не заменитель тех практических действий, которые необходимы для установления демократических институтов, то есть единственных гарантов свободы критической мысли и прогресса науки.
 Глава 24. ФИЛОСОФИЯ ОРАКУЛОВ И ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РАЗУМА
Глава 24. ФИЛОСОФИЯ ОРАКУЛОВ И ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РАЗУМА
Маркс был рационалистом. Вместе с Сократом и Кантом он верил в человеческий разум как основу единства человечества. Однако его учение, согласно которому наши идеи и взгляды детерминированы классовым интересом, способствовало упадку этой веры. Это учение Маркса, подобно учению Гегеля о том, что наши идеи определяются национальными интересами и традициями, подрывает рационалистическую веру в разум. Теснимому справа и слева рационалистическому подходу нелегко выстоять, когда историцистские пророчества и иррационализм оракулов устраивают на него фронтальную атаку. Поэтому конфликт между рационализмом и иррационализмом оказывается наиболее важным интеллектуальным и даже, возможно, моральным предметом дискуссий в наши дни.
I
Поскольку термины «разум» и «рационализм» — расплывчаты, необходимо пояснить, в каком смысле я употребляю эти термины. Во-первых, необходимо отметить, что я использую их в весьма широком смысле1: — для обозначения не только интеллектуальной деятельности, но также наблюдений и экспериментов. Это замечание существенно, так как термины «разум» и «рационализм» часто употребляются в другом, более узком смысле — как противоположность не «иррационализму», а «эмпиризму». Рационализм, истолкованный в таком духе, ставит интеллект выше наблюдения и эксперимента, и его поэтому лучше охарактеризовать как «интеллектуализм». Однако когда я говорю о «рационализме», я всегда использую это слово в смысле, который включает в себя и «эмпиризм», и «интеллектуализм», поскольку наука использует эксперименты в такой же степени, как и методы мышления. Во-вторых, я использую термин «рационализм» для того, чтобы обозначить в общих чертах подход, который стремится разрешить как можно больше проблем, обращаясь скорее к разуму, т. е. к отчетливому мышлению и опыту, чем к эмоциям и страстям. Это объяснение, конечно, не очень удовлетворительное, поскольку все понятия, такие как «разум» или «страсть», являются неоднозначными. Мы не обладаем «разумом» или «страстями» в том смысле, в каком мы обладаем определенными физическими органами,



 260
260
например мозгом или сердцем, или в том смысле, в каком мы обладаем определенными «способностями», к примеру способностью разговаривать или щелкать зубами. Для того, чтобы быть несколько более точным, лучше определить рационализм в терминах определенного практического подхода или поведения. Тогда мы сможем сказать, что рационализм — это расположенность выслушивать критические замечания и учиться на опыте. Это, по сути дела, позиция, которая предполагает, что «я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться, но совместными усилиями мы можем постепенно приближаться к истине». Это позиция, которая не расстается легко с надеждой, что такими средствами, как доказательство и систематическое наблюдение, люди могут достичь соглашения по многим важным вопросам. Эта позиция также предполагает, что даже в том случае, когда требования и интересы людей расходятся, они нередко могут обсуждать многие свои претензии и предложения и достигать — может быть, с помощью арбитража — компромисса, который в силу своей беспристрастности будет приемлемым для большинства, если не для всех. Короче говоря, рационалистическая позиция, или, как ее можно назвать, «позиция разумности», очень близка к позиции науки с ее уверенностью, что в поисках истины мы нуждаемся в сотрудничестве и что с помощью доказательств можно добиваться некоторого приближения к объективности.
Было бы интересно провести более детальный анализ упомянутого нами сходства между позицией разумности и позицией науки. В предыдущей главе я пытался объяснить социальный аспект научного метода, прибегнув к гипотетическим рассуждениям о Робинзоне Крузо как ученом. Совершенно аналогичное рассуждение может продемонстрировать социальный характер научности в отличие от интеллектуальной одаренности или ума. Как и язык, разум есть продукт социальной жизни. Робинзон Крузо, если бы его выбросило на необитаемый остров в раннем детстве, должен был бы обладать незаурядным умом для того, чтобы справиться со множеством трудных ситуаций, но при этом он никогда бы не смог изобрести ни языка, ни искусства аргументации. Хорошо известно, что мы часто спорим сами с собой, но это привычно нам лишь потому, что мы научились спорить с другими, причем научились больше считаться с аргументами, чем с личностью оппонента. (Последнее соображение, конечно, не имеет значения, когда мы спорим сами с собой.) Следовательно, мы можем сказать, что. обладаем разумом, как и языком, для общения с другими людьми.

 261
261
Тот факт, что рационалистический подход принимает во внимание прежде всего доказательства, а не личность доказывающего, имеет далеко идущие последствия. В соответствии с этим фактом, мы должны признавать всякого, с кем общаемся, потенциальным источником доказательств и разумной информации, устанавливая тем самым то, что можно назвать «рациональным единством человечества».
Можно сказать, что в результате проведенного анализа обнаружились некоторые черты сходства в нашем понимании «разума» и в понимании «разума» Гегелем и гегельянцами, рассматривающими его как общественный продукт и более того, как своего рода часть души или духа общества (например нации или класса). При этом гегельянцы подчеркивают под влиянием Э.Берка, что мы во многом обязаны нашему социальному наследию и почти полностью зависим от него. Действительно, определенное сходство имеется. Однако, налицо и очень существенные отличия. Гегель и гегельянцы являются коллективистами. Они утверждают, что поскольку мы обязаны своим разумом «обществу» (или определенной общественной группе, например нации), общество — это все, а индивид — ничто. Другими словами, все ценное, чем обладает индивид, наследуется им от коллектива, подлинного носителя всех ценностей. В отличие от этой позиции, концепция, представленная в этой книге, не предполагает существование коллективов. Если я, к примеру, говорю, что мы обязаны обществу нашим разумом, я всегда имею в виду, что разумом мы обязаны определенным конкретным индивидам, многие из которых, возможно, нам не неизвестны, и нашему интеллектуальному взаимодействию с ними. Поэтому, говоря о «социальной» теории разума (или научном методе) я имею в виду, если быть более корректным, теорию интерперсональную, или межличностную, но ни в коем случае не коллективистскую. Конечно, мы многим обязаны традиции, и традиция действительно очень важна, но термин «традиция» также следует анализировать в контексте конкретных межличностных отношений2. Если мы будем соблюдать это условие, мы сможем освободиться от отношения ко всякой традиции как священной и неприкосновенной или ценной самой по себе и рассматривать традиции как ценные или вредные в зависимости от ситуации и соответственно их влиянию на индивидов. В результате мы сможем осознать, что каждый из нас (опираясь на образцы и критику) способен сделать вклад в развитие или подавление тех или иных традиций.
Позиция, которую занимаю я, весьма отлична от того популярного, восходящего к Платону представления о разуме


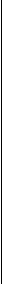 262
262
как своего рода «способности», которой разные люди наделены в различной степени и которую они по-разному могут в себе развивать. Разумеется, интеллектуальные способности могут быть различными, и они могут благоприятствовать осуществлению рациональной деятельности, хотя и не всегда. Умные люди могут вести себя очень нерационально. Они могут цепляться за свои предрассудки, не предполагая услышать что-либо достойное внимания от других людей. Однако на мой взгляд, мы не только обязаны своим разумом другим людям. На самом деле, мы никогда не сможем превзойти других людей своей способностью к рациональной деятельности в том смысле, что никакой уровень развития этой способности не может служить основанием для претензии на власть. В моем представлении авторитаризм и рационализм непримиримы, поскольку основу рациональной деятельности составляет процесс аргументации, предполагающий взаимную критику, а также искусство прислушиваться к критике. Таким образом, рационализм, на мой взгляд, является диаметрально противоположным всем современным платоническим грезам о прекрасных новых мирах, где развитие разума должно контролироваться или «планироваться» некоторым высшим разумом. Единственный возможный способ «планировать» это развитие — в том, чтобы совершенствовать институты, оберегающие свободу критики или, что одно и то же, свободу мысли. Следует отметить, что Платон, несмотря на то, что его теория является авторитарной и содержит в себе требование установить суровый контроль над развитием человеческого разума в лице стражей (как было показано, в частности в главе 8), отдает дань интерперсональной, межличностной теории разума своей особой манерой построения его сочинений: в большинстве его ранних диалогов аргументы излагаются в явно рационалистическом духе.
Смысл, в котором я использую термин «рационализм», может стать, немного яснее, если разграничить подлинный рационализм и неподлинный, или псевдорационализм. «Подлинным рационализмом» я буду называть рационализм Сократа. Он предполагает осознание ограниченности возможностей отдельного человека, интеллектуальную скромность тех, кому дано знать, как часто они ошибаются и как сильно зависит даже это их знание от других людей. Подлинный рационализм предполагает осознание того обстоятельства, что не следует слишком полагаться на разум, что доказательство редко решает проблему, хотя оно и является единственным средством научиться — конечно, не совершенно отчетливому пониманию, а пониманию более отчетливому, чем прежде.
Псевдорационализмом я называю интеллектуальный интуиционизм Платона. Ему присущи нескромная уверенность в наличии у определенных людей высших интеллектуальных способностей, претензия на посвященность, обладание достоверным и безусловным знанием. Согласно Платону, мнение, даже «истинное мнение», как мы это можем прочесть в «Тимее»3, «дано любому человеку, ум же» (или «интеллектуальная интуиция») «есть достояние богов и лишь малой горстки людей». Этот авторитарный интеллектуализм, эта уверенность в обладании безошибочным инструментом исследования, в непогрешимости используемого метода, это неумение отличить интеллектуальные способности человека от того, чем он обязан другим во всем, что способен знать и понимать, — этот псевдорационализм и называют зачастую рационализмом. Я же называю этим именем нечто диаметрально противоположное.
Приведенное описание рационалистического подхода является, конечно, очень кратким и, откровенно говоря, не слишком строгим. Впрочем, для наших целей, его достаточно. Аналогичным образом я предполагаю теперь обрисовать иррационализм и одновременно показать, какие аргументы иррационалист может выдвигать в свою защиту.
Итак, иррационалистический подход обладает следующими особенностями. Признавая разум и научное доказательство в качестве орудий, которые могут быть достаточно полезны в стремлении исследовать поверхностную сторону вещей, или как средства, служащие некой иррациональной цели, иррационалист настаивает на том, что «природа человека» по преимуществу не рациональна.
Человек, утверждает иррационалист, есть нечто большее и одновременно нечто меньшее, чем разумное животное. Чтобы убедиться, что человек является недостаточно разумным животным, необходимо лишь призадуматься над тем, насколько невелико число людей, способных к аргументации. Именно поэтому, полагает иррационалист, большинство людей гораздо легче поддается эмоциям, чем рациональным аргументам. В то же время человек также и нечто большее, чем просто рациональное животное, поскольку все действительно значимое в его жизни — выше разума. Даже те немногие ученые, которые серьезно относятся к разуму и науке, привязаны к своему рациональному подходу просто потому, что он им нравится. Таким образом, даже в этих редких случаях отношение человека к чему-либо детерминировано его эмоциональным складом, а отнюдь не разумом. Более того, великим ученого делает не столько его разум,

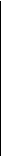

 264
264
сколько интуиция, его мистическая способность проникать в суть вещей. В силу этого рационализм не может предложить адекватной интерпретации даже для несомненно рациональной деятельности ученых. Наука, конечно, представляет собой чрезвычайно благоприятный предмет для рационалистической интерпретации, поэтому следует ожидать, что несостоятельность рационализма более определенно проявится в тех случаях, где его пытаются применить к другим сферам человеческой деятельности. И это ожидание, говорит далее иррационалист, оказывается совершенно правильным. Оставляя в стороне низшие свойства человеческой натуры, обратимся к одному из ее высших проявлений: к способности творить. Незначительное меньшинство творческих людей — людей, создающих произведения искусства, мыслителей, основателей религий и великих государственных деятелей — представляет собой подлинную ценность. Эти немногочисленные исключительные личности позволяют нам осознать подлинное величие человека. При этом, несмотря на то, что эти лидеры человечества знают, как должно использовать разум для достижения своих целей, они никогда не бывают людьми разума. Корни таких личностей простираются глубже: в глубину их личных инстинктов и влечений, равно как и инстинктов и влечений общества, частью которого они являются. Таким образом, творчество, заключает иррационалист, есть всецело иррациональная мистическая способность...
II
Спор между рационализмом и иррационализмом идет издавна. Хотя греческая философия несомненно начиналась как рационалистическое движение, в ней с самого начала присутствовали и черты мистицизма. Как было показано в главе 10, острая тоска по утраченному племенному единству и потребность в защите, которую удовлетворяло племенное общество, выражены в греческой философии вкраплениями мистических элементов в преимущественно рациональный философский подход4. Открытый конфликт между рационализмом и иррационализмом впервые вспыхнул в средние века как противоречие между схоластикой и мистицизмом. (Не лишено интереса то, что рационализм процветал на территории бывших римских провинций, тогда как «варварские» страны прославились своими мистиками.) В XVII, XVIII и XIX столетиях, когда волна рационализма, интеллектуализма и «материализма» была на подъеме, иррационализм был вынужден уделять внимание этим направлениям, чтобы бо-
роться против них. При этом некоторые критики из лагеря иррационалистов, особенно Э. Берк, заслужили благодарность всех подлинных рационалистов за демонстрацию ограниченности рационализма, за разоблачение нескромных претензий и опасностей псевдорационализма (который не отличали, конечно, от рационализма в принятом нами смысле). Когда же эта волна пошла на убыль, «глубокомысленные символические ссылки... и аллегории» (по определению Канта) стали модой. Иррационализм оракулов установил (в особенности усилиями А. Бергсона и большинства немецких философов и интеллектуалов) обычай игнорировать или в лучшем случае оплакивать существование таких ничтожных созданий, как рационалисты. Для них рационалисты или, как они часто говорили, «материалисты», в особенности рационалисты из числа деятелей науки, являлись духовно бедными людьми, бездушно занимающимися своей профессиональной, преимущественно механической деятельностью5 и совершенно неосведомленными о глубинных проблемах человеческой судьбы и философии, касающейся этих проблем. Рационалисты же платили им взаимностью, отбрасывая иррационализм как полнейший нонсенс. Никогда прежде разрыв между этими направлениями не был настолько полным. И значение этого разрыва дипломатических отношений между философами обнаружилось, когда за ним последовал разрыв в дипломатических отношениях между государствами.
Я в этом споре всецело на стороне рационализма, настолько, что даже когда чувствую, что рационализм в чем-то заходит слишком далеко, я все-таки отношусь к нему с симпатией, полагая, что крайности этого направления (за исключением интеллектуальной нескромности платоновского псевдорационализма) являются безобидными в сравнении с крайностями иррационализма. На мой взгляд, крайний рационализм может оказаться опасным лишь в одном-единствен-ном случае: когда он пытается подорвать свои собственные позиции и, тем самым, содействовать иррационалистической реакции. Только эта опасность побуждает меня исследовать более внимательно претензии крайнего и выступать в защиту сдержанного, самокритичного рационализма, признающего определенные ограничения. Соответственно, я буду различать две позиции рационализма, которые обозначу как «критический рационализм» и «некритический», или «всеобъемлющий рационализм». (Это различение не связано с предыдущим, проведенным между «подлинным» и «неподлинным» рационализмом, несмотря на то, что «подлинный» рационализм в моем понимании вряд ли может не быть критическим.)


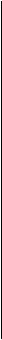
 266
266
Некритический, или всеобъемлющий, рационализм можно описать как подход, которого придерживается человек, говорящий: «Я не намерен признавать что бы то ни было, если оно не обосновано доказательствами и опытом». Это утверждение может быть выражено также в виде принципа, согласно которому следует отвергнуть всякое допущение, если оно не опирается на доказательство или на опыт6. Нетрудно заметить, что названный принцип некритического рационализма является противоречивым, поскольку он сам не может быть обоснован ни доказательствами, ни опытом. Следовательно, этот принцип должен быть отвергнут. (Он представляет собой аналогию парадокса лжеца7, то есть высказывания, которое утверждает свою собственную ложность.) Некритический рационализм, таким образом, является логически несостоятельным, и поскольку это устанавливается посредством чисто логического доказательства, некритический рационализм оказывается повержен оружием, которое он сам для себя выбрал.
Эта критика может быть обобщена. Поскольку все доказательства начинаются с предположений, совершенно невозможно требовать, чтобы все предположения были обоснованы доказательствами. Выдвигаемое многими философами требование, чтобы мы вообще не прибегали к каким-либо предположениям и никогда ничего не принимали в качестве «достаточных оснований», и даже более слабое требование, состоящее в том, что любое исследование следует начинать с очень небольшого набора предположений («категорий»), — оба эти требования несостоятельны. Ведь сами они основываются на очень сильном предположении, будто возможно начинать познание без каких-либо предположений или иметь всего несколько предположений, и тем не менее получать результаты, стоящие затраченного на них труда. (В действительности этот принцип неприятия любых предположений является не верхом совершенства, как полагают некоторые, а разновидностью парадокса лжеца8.)
Все, что я только что высказал по поводу рационализма, выглядит несколько абстрактно, однако то же самое можно изложить и менее формальным способом. В рационалистическом подходе придается большое значение аргументации и опыту. Однако ни логическая аргументация, ни опыт сами по себе не определяют выбор рационалистического подхода, поскольку лишь те, кто готов принимать во внимание аргументы и опыт, то есть те люди, которые в действительности уже признали рационализм, — только они и будут проявлять к нему интерес. Можно сказать, что рационалистический
подход сначала должен быть принят и только после этого могут стать эффективными аргументы и опыт. Следовательно, рационалистический подход не может быть обоснован ни опытом, ни аргументами. (Проведенное рассуждение совершенно не зависит от решения вопроса о том, существуют или не существуют какие бы то ни было убедительные рациональные аргументы в пользу признания рационалистического подхода.) Из всего сказанного можно сделать вывод, что никакие рационалистические аргументы не способны рационально воздействовать на человека, который не желает признавать рационалистический подход. В результате всеобъемлющий рационализм оказывается несостоятельным.
Однако это означает, что некто, принимающий рационалистический подход, поступает так потому, что сознательно или бессознательно принимает некоторый план, проект, решение, веру или стиль поведения, причем такое принятие можно назвать «иррациональным». Независимо от того, является ли такое принятие пробным, предварительным или ведет к формированию устойчивой привычки — в любом случае оно может быть определено как иррациональная вера в разум. Следовательно, рационализм с необходимостью далеко не всеобъемлющ и не самодостаточен. Это обстоятельство часто остается незамеченным рационалистами, которые в результате сами подставляют себя под удары собственного оружия на собственном поле, и это обязательно происходит всякий раз, как только какой-нибудь иррационалист не поленится обратить это оружие против них. И действительно, от внимания некоторых врагов рационализма не ускользнуло то, что всегда можно отказаться от признания тех или иных аргументов: либо всех, либо лишь определенного вида, причем такой отказ можно осуществлять, не доводя дело до логической несостоятельности. Благодаря этому иррационалисты увидели, что некритически настроенный рационалист ошибается, будучи убежден, что рационализм самодостаточен и может быть обоснован доказательствами. Поэтому иррационализм логически превосходит некритический рационализм.
Тогда почему же не принять иррационализм? Многие из тех, кто начинал свою деятельность рационалистами, утратили впоследствии иллюзии, обнаружив, что всеобъемлющий рационализм разрушает сам себя, и практически капитулировали перед иррационализмом. (Именно так и произошло, если я не ошибаюсь, с А. Уайтхедом9.) Однако такие панические действия совершенно ничем не оправданны. Хотя некритический, всеобъемлющий рационализм логически несостоятелен, а всеобъемлющий иррационализм логически
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ДРУГИЕ ОРАКУЛЫ 1 страница | | | ДРУГИЕ ОРАКУЛЫ 3 страница |